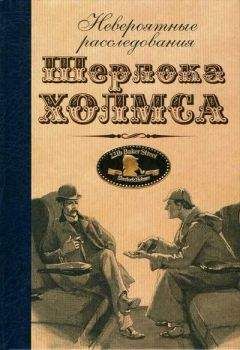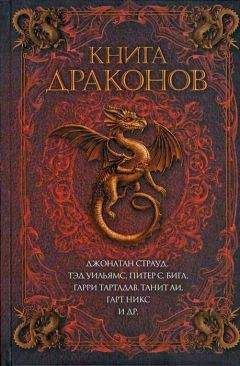нас было тяжелое утро.
Хамис, с искаженным от негодования лицом, уставился на нее, а потом на всех сидевших за столом – на всех, кто не возразил мне ни словом, точно так же, как не возражал Хамису, пока он пользовался чужой маной и чужой помощью и делал что хотел. Потому что бессмысленно возражать в том случае, когда правильный ответ – «да». Это как-то само собой становится ясно, и Хамис оставался в блаженном неведении только потому, что никогда раньше он, счастливчик из анклава, не проигрывал.
Но теперь он сам стал неудачником. Он, и Магнус, и Хлоя, и остальные члены анклавов, которые не могли преодолеть полосу препятствий без меня. Вполне вероятно, что и из выпускного зала они бы без моей помощи не выбрались. И если бы я предложила Хамису, Магнусу и Хлое место рядом с собой в обмен на все, что они могли наскрести совместными усилиями – ману, тяжкий труд и даже дружбу, – и если бы я взяла их приношения и воспользовалась ими, чтобы разыграть героиню (хотя, конечно, они этого не хотели, поскольку мое великодушие грозило им гибелью), – так вот, они бы все равно согласились и поблагодарили меня. Спасибо, Эль. Большое тебе спасибо.
Тишина длилась долго. Хамис молчал и смотрел в стол. Он был не трус и не дурак, и когда его ткнули носом в суть проблемы, он все понял. Меня тоже ткнули носом, но это было немного другое дело. Я ощущала только досаду. Жаль, что Хамис устроил такую сцену. К чему лишний шум?
Родись я в анклаве, полагаю, меня научили бы принимать такие ситуации изящно. Элфи сказал бы с еле заметной ноткой скорби: «Знаете что? Я думаю, надо выпить чаю», и обратился бы к своему обширному запасу маны, и превратил кувшин с водой в большой дымящийся чайник, и на столе появились бы молоко и сахар – те приятные мелочи, в которых нуждается потрепанная душа. И все остальные согласились бы – не потому что вкусный чай способен залечить зияющую рану, но потому что когда у тебя ничего нет, ты берешь, что дают.
Но я не была членом анклава и не могла принять эту ситуацию с подобающим изяществом, а мои соседи даже чашкой чая не вознаградили себя за муки. Тогда я развернулась и сбежала в недра библиотеки.
Аадхья отыскала меня там. Не знаю, сколько времени прошло. Дневного света в школе нет, а искусственный никогда не меняется. Я сидела одна в маленьком помещении, где не слышно звонков – в аудитории, где ни у кого и никогда не было уроков, где Шоломанча весь год пыталась если не убить меня, то заставить повернуться спиной к другим. К ребятам, которых я даже не знала. Как будто школа гораздо раньше меня поняла, что об этом нужно побеспокоиться. Точно так же, как она знала, что я могу убить чреворота, и попыталась подсунуть мне приманку.
Мои младшеклассники по-прежнему ходили сюда на занятия каждую среду, но Чжэнь сказал Лю, что нападения полностью прекратились. По идее в школе не было места безопаснее – и наконец оно таким и стало. Шоломанча больше не видела смысла пригонять сюда злыдней. Она попыталась, но ничего не вышло. Я не усвоила урок; я не отвернулась.
– Здесь мило, – сказала Аадхья, стоя в дверях и обводя взглядом аудиторию. Этот класс предстал ее глазам таким же, каким некогда предстал мне – безопасный уголок, тихая гавань… прежде чем я нерассудительно поставила свою подпись на расписании и подняла перчатку, брошенную школой.
Аадхья вошла, пододвинула ближе соседнюю парту и села напротив меня.
– Остальные пошли обедать. Лю и Хлоя нам что-нибудь раздобудут. Никто не соскочил, если ты об этом думала.
– Да нет, – сказала я и рассмеялась беспомощным дрожащим смехом, а потом закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на нее – на своего союзника и друга, лучшего из всех, кого я знала, не считая Ориона. Аадхья была первым в мире человеком, который дал мне шанс не причинить ей боли.
Она сказала:
– У меня была сестра.
Я подняла голову и взглянула на нее. Аадхья постоянно рассказывала о родных. Она дала мне письмо для них – точно так же, как я дала ей, Лю и Хлое письма для мамы, просто на всякий случай – и, даже не глядя на конверт, я угадала адрес большого дома в пригороде Нью-Джерси, с бассейном на заднем дворе. Я слышала бесчисленные, болезненно аппетитные описания яростных кулинарных состязаний между бабками Аадхьи, Нани Арьяхи и Даади Чаитали, и знала неприличные анекдоты, которые травил дедушка в мастерской, когда учил внучку паять и пользоваться ножовкой. Я все знала про ее решительную и стильную маму, которая вручную ткала зачарованную ткань – ткань, которая затем отправлялась в анклавы Нью-Йорка, Окленда и Атланты. Я знала про ее молчаливого папу, который шесть дней в неделю работал в анклавах техником по найму. Я знала их имена, любимые цвета, фишки, которыми они играли в «Монополию»…
Но про сестру Аадхья упомянула впервые.
– Ее звали Удайя. Мне было два года, когда она погибла, так что я почти ничего не помню, – сказала Аадхья. – О ней никто никогда не говорил. Одно время я считала, что просто выдумала себе сестру, а в десять лет нашла на чердаке коробку с фотографиями.
Она усмехнулась.
– Я испугалась.
Я знала, что́ она делает и что следует сделать мне. Я должна была спросить, что случилось, и тогда Аадхья рассказала бы про сестру, которая погибла в школе, может быть, во время выпуска, и уверила бы меня, что все прекрасно понимает – я пытаюсь спасти как можно больше людей. А потом я пойду вниз, и, если не сумею успокоиться и сделать всем чаю, Хлоя, вероятно, сделает это за меня, и вечером мы вернемся к обдумыванию стратегии, как будто ничего не изменилось. И я знала почему – потому что Аадхья всегда поступала разумно и практично, даже если на самом деле ей хотелось оторвать мне голову.
– Я не могу, – сказала я дрожащим, как от слез, голосом, хотя я не плакала, я просто сидела тут одна. – Прости, я не могу.
Я попыталась нащупать разделитель маны, но Аадхья протянула руку и прижала мое запястье к парте.
– Ты опять? Я просто хочу, чтобы ты забыла о своих страданиях, замолчала и послушала меня пять минут.