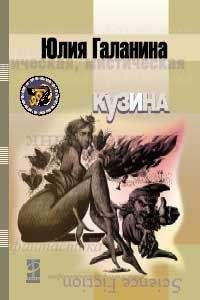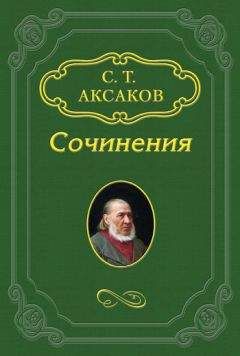Когда же сил не осталось даже на то, чтобы приподнять ресницы, перекресток вытолкнул нас обратно под темные своды башни Сегодня. Сквозь ресницы я увидела, что огонек так и мерцает у портретов, но лица на портретах расплывались, покачивались. И мне по-прежнему нужно было прижиматься к нему, чтобы не упасть.
Сонная, я плыла по замку на руках дракона, как в колыбели. Он донёс меня до спальни. Опустил на кровать.
– Не хочу! – вцепилась я в него, ощутив лёд простыни разгорячённым телом.
Лёг рядом, тогда я успокоилась. Чувствовала затылком горячее дыхание и губами полудышала-полуцеловала его пальцы. И незаметно уснула.
Проснулась утром одна, лишь на краю подушки сидели рядком мои бабочки, и крылья их блестели переливчатыми огоньками в пробивающихся сквозь шторы лучах света.
* * *
Время близилось к обеду, а я так плотно вошла в воспоминания, что ничего вокруг не замечала.
Мне надо было восстановить всю цепочку событий до конца, пока боль отодвинута, пока я в таком состоянии, пока вокруг тишина и одиночество. Кто знает, смогу ли я пробиться к ним позже, теперь каждая минута на счету, раньше время тянулось, а теперь уплотнилось, спрессовалось в пласты, как та земля, в которую мы вгрызаемся.
У Клина были другие планы.
Он словно унюхал, что в четвертой яме дело неладно. Может быть, стоящие на лебедке заметили, что корзины с породой поднимаются медленнее, чем обычно – всё-таки без Выдры дело застопорилось.
Клин решил проверить, в чём дело.
Погружённая в свои мысли, я и не заметила, не услышала стона лебедки. Нагребла очередную корзину, повернулась, чтобы поставить на тачку – и только тогда увидела, что посреди проходки, подпирая головой доски свода, стоит надзиратель и, похоже, глазам своим не верит.
Полтуннеля разворочено непонятно чем, гном исчез. Гном, без которого их, надзирателей могут, не долго думая, в такую же яму отправить, только мужскую. Побег заключенного из места, откуда никто никогда не убегал, да ещё такого заключённого, на котором вся норма выработки золота держалась.
В подземном сумраке проходки детали скрадывались, но, похоже, физиономия у Клина побагровела, практически почернела. Он набычился, словно раздался вширь, заслоняя и без того небольшой проход к лебёдке. Надо было срочно искать виноватого и рвать его на части голыми руками. И кто ж у нас виноватый? Я, конечно же. Других заключенных поблизости не было.
Клин качнулся вперёд.
Честно признаться, я его и не видела толком – я была там, в Тавлее, улыбалась спросонья, на уголке подушки трепетали крылышками мои обереги, а под окном раскрывались навстречу солнцу розовые лотосы.
Клин мне мешал, его появление было совершенно некстати, я только-только начала разматывать ниточку, мне нельзя было сейчас отвлекаться на разную ерунду.
Оставив корзину на дне проходки, я мягко подалась к нему. Как можно ближе, как можно быстрее.
Глаза у Клина стали удивлёнными, а потом изумлёнными. Лицо дрогнуло и стало растерянным, и в эти секунды, тянущиеся куда дольше, чем им положено, я вдруг поняла, что он совсем ещё зелёный, Великое Солнце, навсегда незрелый человек, сколько бы лет ему ни было.
Он же считал себя удачливым, сильным, хитрым, имеющим непыльную работу, вкусную еду, одноночных подружек на любой выбор, а его никто, совершенно никто и никогда не любил, сколько бы женщин он ни брал силой.
Он даже понятия не имел, каким светом сияют глаза, когда между двумя натянута ниточка, насколько она прочна и как невесома. И насколько это – другое, к чему нельзя принудить, чем нельзя обязать, невозможно заставить.
И бедный, растерявшийся Клин перепутал: я ведь думала совсем не о нём, не его желало моё тело, не ему улыбалась моя душа. И я не пыталась, как он подумал, отсрочить ласками расправу. Я не собиралась его обнимать, он мне мешал, появился не вовремя. Буквально мгновение длилось заблуждение, но этого хватило, чтобы сомкнуть руки на шее надзирателя.
А шею в здешних местах не рекомендуется подставлять никому.
Мне тоже досталось изрядно, но наконец-то можно было не сдерживать себя, выполнить то, о чём страстно мечталось когда-то, а сейчас и вовсе не хотелось, просто не надо было Клину попадаться в неудачный момент, отвлекать от по-настоящему важных дел.
Надо же, насколько крепкими становятся руки от бесконечного поднимания корзин с землей. Никак, глядя на них, не скажешь, а вот, поди ж ты… Надзирательская откормленная шея оказалась куда хлипче. Мельком я пожалела, что под руку попался не Лишай.
И подумала, что в принципе именно поэтому Орионидов сюда и не ссылают: когда мы осознаём себя до конца, удержать нас против нашей воли где-либо невозможно, слишком тщательно нас учат контролировать себя, чтобы мы могли позволить ещё кому-то диктовать нам условия. Договориться с нами можно, можно убедить, обмануть на худой конец, а вот заставить силой – вряд ли…
Поэтому-то наш удел – плаха, но в данном случае и плаха была бессильна, и я уже знаю, почему я здесь. Просто мне надо совсем немного времени, чтобы вывести все события из-за болевого барьера, осталось всего ничего. И я это сделаю.
После того, как Выдра покинул рудник, а Клин лёг на дно проходки, задерживаться смысла не было. И так загостилась, пора и честь знать.
Я сунула за пазуху выдрин мешочек с золотом, поколебавшись, прихватила вязание. Незачем пушистой, тёплой шерсти валяться в мёрзлой земле.
Равнодушно обошла опрокинутое навзничь тело, выбила доски, которыми подпёрла сомнительные столбы крепи, быстро выбралась в ствол, забралась в напрасно ожидающую Клина бадью, подёргала, чтобы поднимали.
Медленно поехала наверх, к дневному свету. Доски, крепившие ствол, почернели, многие требовали замены.
Когда бадья поднялась над краем ямы – подтянулась, перекинула ноги через её край, соскочила на землю.
С непривычки яркий дневной свет резанул по глазам, ещё бы, полдень, – в это время я всегда была внизу, в земле. Небо было синее, глубокое, и пухлые облака плыли неторопливо.
Наконец-то можно было распрямиться в полный рост, не опасаясь стукнуться о низкий свод. С удовольствием, не спеша, потянулась, прогнулась, расправила плечи. Подняла голову так, как и держат её родившиеся под чёрными знамёнами Ориона.
Каторга чувства обостряет – стоящие на лебедке сразу поняли, что дело неладно, кинулись от меня прочь. Никакой угрозы я для них не представляла, но нельзя заключенному на руднике вести себя, как свободному человеку, без пугливой оглядки по сторонам, без ожидания удара в любую минуту, без печати униженности во всём облике. Это пугает окружающих сильнее всяких ужасов.
Пока соседки по бараку, оглядываясь, словно проверяя, не обман ли зрения случился, спешили к тропе, уводящей к жилью, я пересекла просеку и углубилась в весенний, почти летний лес.