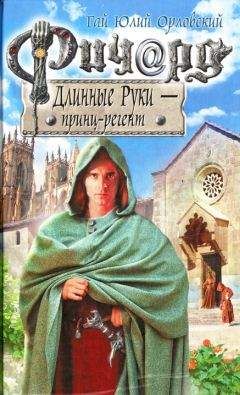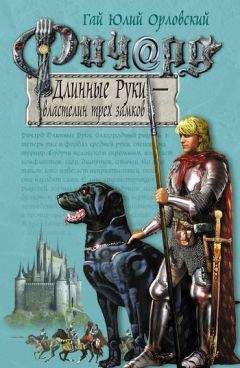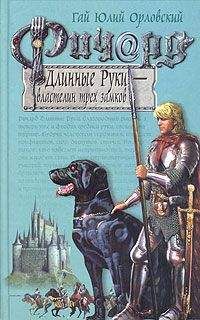Я торопливо оделся, на душе пакостно и тревожно. Из головы не идет то чувство близкой опасности, а также моя неспособность призвать оружие или что-то еще из так необходимых, как теперь кажется, вещей, оставленных, можно сказать, в стационаре.
В дверь мощно бухнули, как будто бревном, и она тут же отворилась, не дожидаясь моего отклика. Вошел брат Жак, огромный и медведистый.
— А-а, — сказал он довольно, — и не ложился?.. Иди пожри на ночь, а то по себе знаю, никакой сон не идет, когда брюхо пустое. Твоя собачка уже успела и за тебя? Молодец, я так и думал, она у тебя хозяйственная! А как насчет выпить?
— Она или я? — спросил я осторожно.
Он довольно хохотнул.
— Хороший вопрос. Чувствую, ты паладин еще тот! И вполне уживешься, у нас тут просто.
— Погоди, — сказал я, — а разве трапеза не в двенадцать?
— Точно, — подтвердил он, — трапезная — хорошее место, можно поговорить обо всем, но если хочешь пожрать, то либо проси, чтобы тебе принесли в келью, а если не слишком зажрался, то и сам сходишь… Кстати, твоя собачка так уелась, что чуть там спать не легла.
— Вот свинья, — буркнул я. — Правда, мы так долго добирались сюда по морозу, что ей надо восполнить потерю жировых запасов. А где у вас кухня?
— Я проведу, — сказал он. — Разве не долг наш заботиться о братьях наших меньших?
Я вышел вслед за ним, а когда проходил по коридору, свечи на стене вспыхнули ярче. Жак от неожиданности остановился так резко, что едва не ударился о выступ стены.
Я по инерции сделал еще пару шагов, следующие две тоже вспыхнули, как два маленьких солнца.
— Чего это они? — проговорил он с недоумением.
Я ответил натужно бодро:
— Да просто приветствуют гостя. Вежливые значит. Ты же свой, тебя чего замечать?
— Что значит, — спросил он сердито, — приветствуют? Раньше никого не приветствовали!
— Времена меняются, — ответил я. — Вернее, мы их меняем.
— Лучше бы не менялись, — проворчал он. — Так спокойнее.
Я сделал еще несколько шагов, там дальше свеча, горит едва-едва, однако только я подошел ближе, вспыхнула радостно и празднично, даже цвет пламени поменялся, хотя, на мой взгляд, пурпурный выглядит несколько зловеще в сравнении с желтым или оранжевым.
— Мне больше нравится, — сказал я, — когда времена меняются.
Он покосился на меня с неудовольствием.
— Пойдем быстрее, брат паладин!
— А что с Храмом? — спросил я на ходу. — Над ним часто такое вот… с тучами, молниями…
Он посмотрел равнодушно.
— Всегда.
— Ого, — сказал я. — И что?
— И ничего, — ответил он.
— А не вредит? — спросил я. — А что это хоть? Почему?
Он пожал плечами.
— Говорят разное, но мне кажется, просто темнят. Сами точно не знают и даже не догадываются. А когда начинают объяснять, то такое несут, что уши вянут и хочется в зубы двинуть… А когда сцепятся, то такое начинается…
— Что, — спросил я с недоверием, — никто не знает?
Он сказал с досадой:
— Что знают старшие монахи, нам неведомо. Они даже спят отдельно. В смысле, от нас отдельно. А молодые только строят догадки. У нас, да будет тебе известно, послушники по пятнадцать лет трутся, пока их допускают до монашества!.. Так что молодые монахи не обязательно с соплями до пояса. Говорят, то ли от демонов, осаждающих святую обитель, то ли от просто погодных явлений. Хотя, конечно, когда молнии становятся багровыми, а с неба падают камни, то это уже на дождь не похоже, но отец Леклерк все равно стоит на своем. Говорит, особые ветры могут поднимать даже камни и переносить на тысячи миль… но я все равно не понимаю, почему эти дурные ветры всякий раз обрушивают камни на Храм.
— И как, — спросил я, — повреждают сильно?
Он посмотрел на меня с удивлением и чувством превосходства.
— Ничуть. Наш настоятель ограждает обитель святым щитом. Все исчезает, аки дым пред очи Господа.
Следующий зал разделен на три части двумя ровными рядами колонн, толстых, как двухсотлетние дубы. Сверху соединены красиво и торжественно выгнутыми арками, но все серо, и сказочным контрастом в дальней стене три цветных витражных окна со стрельчатыми арками.
В конце коридора он отворил последнюю дверь, я оглянулся. Свечи продолжают гореть так же празднично, свет озаряет стены из камня, делая их похожими на полудрагоценные, что для монастыря вообще-то лишний соблазн.
— Мне нравится, — сказал я и переступил порог.
Комната небольшая, светлая, хотя при таких свечах это нетрудно. За большим общим столом уютно устроились трое монахов, все молодые, при моем появлении поднялись и вежливо поклонились.
Я сказал, скрывая неловкость:
— Я не аббат пока что, так что не надо, а то впаду в гордыню, а на мне и так грехов больше, чем на бродячей собаке репьев.
Брат Жак сказал бодро:
— Это вот брат Смарагд, это Жильберт, дальше Гвальберт Латеранец. Мы иногда завтракаем вместе… ну, а сейчас у нас промежуточная, так сказать, трапеза между ужином и завтраком.
Я сел, сказал осторожно:
— Но вы уверены, что ничего не нарушаете?
Интенсивнее всех в меня всматривается, как я обратил внимание, брат Гвальберт, крупный и с массивной абсолютно лысой головой, что сидит прямо на плечах, минуя шею или вдавив ее так, что ее и нет вовсе, из-за чего поворачивается по-волчьи: всем корпусом.
Я ощутил, что по ту сторону глаз расположен мощный мозг, что смотрит через эти глаза, и хотя это у всех, но у него видно. Это когда смотришь в лицо брата Альдарена, помощника отца Мальбраха, елемозинария, то какой там мозг, в пустой голове лишь вера во Всевышнего…
Брат Жак сел рядом и придвинул мне тарелку с жареной рыбой.
— Ешь, а то не успеешь.
— Отнимут? — спросил я опасливо.
— Мясо принесут, — ответил он со смешком.
— Ого, — сказал я, — я как-то по-другому представлял монастырскую жизнь.
Брат Гвальберт взглянул на меня, как показалось мне, с некоторым колебанием.
— Брат паладин… у нас монастырь, а не сборище немытых аскетов. Мы помним, как святая Колумба каждую ночь читала Псалтырь, стоя в ледяной воде, а Бригита из Киндара в зимнюю ночь окуналась в пруд и молилась там…
Я порылся в памяти.
— Те, для которых Всевышний осушил тот пруд?
Он кивнул.
— Похвально знание таких вещей, брат паладин. Ты, оказывается, человек грамотный… Всевышний в первый раз осушил пруд, но когда его наполнили снова и Бригита подошла к нему, он вскипятил воду, так что ей пришлось отказаться от самой мысли погрузиться в нее. Понимаешь, что хотел сказать Господь?