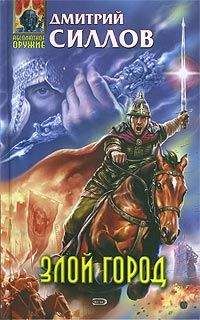Кузнец вдохнул-выдохнул пару раз, словно кузнечные мехи прокачал легкие, выгоняя накопившуюся в них угольную пыль. Мимо него, чуть не задев бородача плечом, прошел Никита, ничего не видя перед собой. Кузнец посторонился, пропуская парня, и еще некоторое время смотрел ему в спину, морща лоб и покусывая нижнюю губу.
– Ох, не дело затеял воевода дочку супротив воли за постылого выдавать, – глухо сказал он наконец. – Да и Никита того и гляди руки на себя наложит.
Подмастерье пожал плечами.
– Дык на то он и воевода, дядька Иван. Абы кого княжьим пестуном[32] не поставят. Нам-то что – мы люди маленькие.
Кузнец медленно обернулся, посмотрел на подмастерье задумчиво, после чего отвесил ему увесистый подзатыльник ладонью, твердостью от железа почти неотличимой.
– Понимал бы чего, недоросль! – резко выплюнул слова Иван, словно молотом ударил. – А еще кузнецом стать собрался! Негоже это, когда люди супротив закона Божьего идут!
Подмастерье с опаской ощупал затылок. Шишки, похоже, не миновать. Хорошо, что по затылку вдарил, а не в подглазье, а то б и по улице не пройти – девки засмеют.
Ох, и тяжела наука у кузнеца Ивана! А куда деваться? Считай, повезло. Иван первейший коваль не только в Козельске, но и на многие версты вокруг него. И тут два пути – либо науку перенимать, либо обратно на улицу иди, коль такой умный, хошь в побирушки, хошь в ушкуйники[33]. Да только пока та наука переймется, своя умная голова кузнецовыми ладонями в чушку перекуется, ни одна шапка не налезет.
– Да я чо? Я ничо, я ж так сказал… – пробормотал подмастерье, на всякий случай готовясь прикрыться руками. А все ж любопытство пересилило. – А это, дядя Иван, только вот непонятно – где есть здесь закон Божий? Воля родительская – это ж и есть закон?
Иван грохнул кулачищем в косяк, подмастерье мысленно перекрестился.
– Дурень! – взревел кузнец. – Совесть человеческая – это и есть закон Божий! И когда супротив совести за серебряную гривну родную дочь отдают… Э, да что там! Пошли, хватит лясы точить, работа не ждет!
Кузнец повернулся, впихнул подмастерье обратно в кузню, вошел следом и громко хлопнул дверью так, что со стрехи на крыльцо посыпалась труха и шумно взлетела с резного конька крыши сонная ворона, оглашая улицу дурным возмущенным криком.
Тусклый свет едва пробивался в окно, затянутое мутным бычьим пузырем. Но весеннее солнце хоть и не жаркое, но упорное. Не теплом, а упрямством перебарывает весна суровую зиму, которая хошь не хошь, а вынуждена отступать в далекие северные земли под давлением набирающего силу древнего Ярилы[34].
Настойчивый лучик все ж таки пробился сквозь муть пузыря и, добравшись до большого камня, вделанного в массивное золотое кольцо, заиграл, преломляясь в гранях и обретая утраченную силу.
Кольцо было надето на толстый волосатый палец, который вкупе с такими же волосатыми соседями составлял десницу[35] уважаемого в городе купца Семена Васильевича, который нынче соизволил посетить дом городского воеводы и покуда сидел в горнице за пустым столом, дожидаясь хозяина. Время от времени купец как бы невзначай поворачивал десницу и так и эдак, любуясь игрой камня и ухмыляясь при этом в бороду каким-то своим донельзя приятным мыслям.
Хлопнули ворота, процокали по двору конские копыта. Гость хмыкнул довольно – и тут же придал лицу усталое выражение крайне занятого человека, оторвавшегося от дел величайшей важности ради незначительной безделицы.
Хозяин долго ждать себя не заставил. Скрипнули пару раз ступени, принимая тяжесть мощного тела, и, пригнувшись слегка, дабы не задеть дверной косяк шеломом, в горницу вошел воевода. Прищурился, словно попав с улицы в темень, не узнавая гостя и давая тому возможность поприветствовать хозяина первым. Однако гость особо не торопился с поклонами, а тоже прищурился, будто со свету, хлынувшему в горницу из-за распахнутой двери, после чего неторопливо приподнялся с лавки и, выждав время, когда и хозяину уж пора бы распознать, кто перед ним, отвесил поклон с воеводой одновременно.
– Здрав будь, Федор Савельевич, воевода козельский, рад видеть тебя в силе и здравии, – проговорил медленно и степенно Семен Васильевич голосом, в котором радости особо не чувствовалось. – Чтой-то не признал я тебя сразу в шеломе.
– И тебе поздорову, купец тороватый, – ответил воевода, снимая шлем и отворачиваясь к оружейной стойке. Так что произнося последние слова приветствия, пришлось купцу созерцать воеводину спину.
Посозерцал. Подождал, пока воевода, разобравшись со шлемом, снимет перевязь с мечом и туда же на стойку пристроит. Притушил в груди вспыхнувшую было не к месту обиду – стоит ли дурь показывать, когда сам по делу пришел? Ясно дело, не стоит. Хочется хозяину показать, кто в доме голова – нехай тешится, мы люди не гордые.
Наконец воевода повернулся к гостю лицом и, пройдя к столу, присел на лавку напротив, жестом приглашая гостя садиться тоже. Гость обычай соблюл и, садясь напротив, выложил на стол обе руки – мол, смотри, хозяин, мои руки не оружны, с миром пришел. Однако десницу с перстнем невзначай положил сверху.
Воевода, напротив, принял ту же позу, словно в серебряном зеркале отраженную. После чего заорал зычно:
– Глашка! Пошто гостю квасу не поднесла?! Али если хозяина дома нету, так и порядка быть не должно?
Откуда-то сверху по лестнице кубарем скатилась дворовая девка, таща в руках здоровенный жбан квасу с привешенными к нему сбоку черпаками.
– Благодарствую, воевода, – степенно кивнул купец, отведав пряного, пахнущего травами напитка. – Знатный у тебя квасок.
– И тебя благодарю, Семен Васильевич, за то, что в гости зашел, – бесцветным голосом произнес воевода. Теперь, когда положенное было проговорено, можно было и узнать, за каким лядом приперся средь бела дня гость незваный, которого – чего греха таить – век бы не видеть, ан никуда от него не денешься, приходится принимать хошь не хошь.
– Да я к тебе, можно сказать, по своей торговой надобности явился, – усмехнулся Семен, любуясь своим перстнем. Солнечный зайчик, заключенный в алмазных гранях, словно невзначай вырвался из своего плена и мазнул по зрачкам сидящего напротив воеводы. Воевода сощурился, но взгляда от лица гостя не оторвал. Если бы можно было тому гостю да взглядом в лоб засветить, была бы у первого в городе купчины в головушке дыра похуже чем от праштной пули[36]. Но взгляд – он и есть взгляд, и сколь бы тяжел он ни был, от него часто никому не жарко и не холодно.
– А надобность моя, воевода, такая, – продолжал Семен. – Что у тебя товар, а вот, стало быть, и купец.