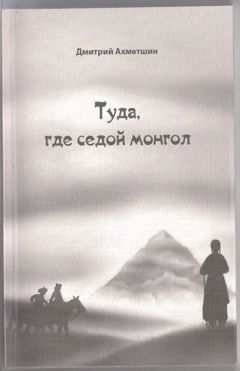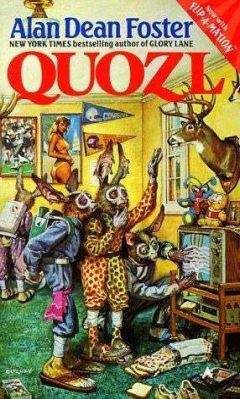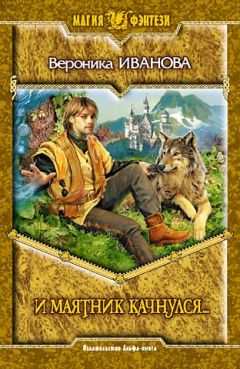Ознакомительная версия.
Когда он почувствовал, как от напряжения дрожит под ногами земля, слова полились потоком и их было уже не остановить.
— У меня только что появился одиннадцатый седой волос в усах, — хмуро сказал батя Анхар. — Я предлагаю отпраздновать и это тоже. Но понимаешь ли ты, что две рабочих руки — серьёзная потеря для аила? Кто будет вести твоих коней, когда ты уйдёшь?
Батя Анхар был маленьким, жилистым монголом с большим плоским лицом. На этом лице с поразительной подробностью отображались эмоции и мысли. Тонкие аккуратные усы висели чуть ниже подбородка, и, глядя на них, любой понимал, зачем Анхару понадобилось чествовать каждый седой волос. Волос там было не так уж и много. Десятый свисал справа ото рта, и был аккуратно подвязан синим шнурком. Глаза раскосые и внимательные, будто две рыбные косточки.
Он поднёс ко рту чашу с брусничным соком, во второй руке ожидала своего часа и капала соком на халат баранья лопатка. Наран следил за руками бати Анхара. Кисти похожи на головы птиц на длинных шеях, и движения их от стола ко рту — как будто кормят в гнезде птенца. На правой руке не хватало мизинца.
— Я тоже иду! — пискнул Урувай.
— Кто там ещё идёт, — проревел старейшина, вмиг растеряв всю обстоятельность, и отбросил от себя полуобглоданную баранью кость. Не вытирая рук, упёр их в бока. — Покажись!
Толстяк поспешно поднялся, качая подбородком и словно раздумывая, не отвесить ли на всякий случай пару поклонов. Или с десяток.
— Я не навсегда ухожу, — торопливо сказал он. — Я провожу моего друга и вернусь. Он хороший, и я не хочу бросать его в степи одного…
— Не желаю ничего слышать, — сказал старейшина, и вытянутая для расслабления в сторону нога его задёргалась от тика.
Наран скосил глаза туда, где сидел в окружении своих сыновей дед Урувая, и ухмыльнулся про себя. Рот открыт, словно отказала какая-то мышца, по пышным усам, кое-как закрученным в косы (с тем же успехом можно было бы попытаться приручить жёсткий валежник), струится молоко.
Урувай шажочек за шажочком отступил за спину приятеля. Тело у него неповоротливое и большое, но шажочки остались самыми детскими, которые Наран видел у взрослых мужчин. Он пытался спрятаться за худощавого Нарана, но полностью это никак не получалось. Вот пытается убрать руку, пригнуть голову, чтобы не торчала над шапкой, подвинуть нужным образом ногу. Втянуть живот. Наран слушает тяжёлое дыхание. Сначала всё по очереди, потом одновременно, и в результате довольно громко пукает. Щёки и лоб наливаются краской, будто бы там, в голове, перебили какую-нибудь артерию, по шее струится пот. Но его промах всё равно никто не замечает: Наран прошит взглядами, словно иглами, и кажется, что если вдруг подожмёт ноги, то останется на них висеть.
— Ты оставляешь нас совсем одних, Наран. Мужчин никогда не бывает достаточно. Кроме того, — батя поёрзал, устраиваясь поудобнее, но новое положение тела ему тоже не понравилось, и брови поползли вниз. — Кроме того, зима наступает. Перед зимой мы беспомощны и медлительны, как улитки. Со всеми юртами, со всеми женщинами и жеребятами, и повозками… А вдруг что! Вдруг придётся сняться с места и ехать… Ае! Ты соображаешь, что делаешь? Без нашего костра ты околеешь насмерть, и, чтобы добыть твою кровь, диким зверям нужно будет самим разводить костёр.
— Я должен отправится в странствие. — Наран медленно водил глазом по собравшимся. Оба его брата были здесь, и он остановил взгляд на каждом, пытаясь расколоть каменные лица. — Я слышу голос в моей голове, который говорит, что я должен ехать.
Никакой голос в его голове не звучит, но небольшая ложь не помешает. Наран быстро взглянул на старшего шамана. Старший шаман отвёл взгляд и принялся терзать кусок конины, раздувая щёки и показывая гнилые зубы.
— Посмотри, батя! Всё написано на моём лице. Надо мной до сих пор кружит тот стервятник, что должен был склевать мне мозг семь зим назад. Может, я паду по дороге, и тогда круг замкнётся. Всё встанет на свои места. Что бы я не начинал, всё сочится сквозь пальцы, как вода. Огонь кусается, а если что поручают сделать, всё валится из рук.
— Это правда, — подал голос шаман. — Этой весной я поручал ему забить хромого жеребца и добыть кости. Он пришёл ко мне и положил нож к ногам.
Староста поднял брови.
— На ноже даже не было крови, — продолжал шаман. — Он не забил лошадь. Хромой жеребец от него убежал!
— Почему ты не сказал об этом мне? — поморщился батя. — Я бы дал ему плетей. Теперь уже поздно, он ничему не научится.
Это напоминание произвело какую-то перемену в Наране.
— Меня затошнило, и я дал тому жеребцу уйти. Хлопнул его по крупу и сказал ему, чтобы он бежал так быстро, как позволяла хромая нога.
— Он ушёл? — спросил староста шамана.
Шаман, похожий на цыплёнка куропатки с большой головой на тонкой шее, покачал головой.
— Я послал с ножом Мимира, и Мимир нашёл его в стаде.
— Видишь? Ничего не изменилось от твоей добродетели. Жеребец всё равно отдал кровь аилу, а ты заклеймил себя, как малодушный. Теперь я должен принять тебя в услужение, чтобы учить уму-разуму — или выпроводить. Вижу, ты сам хочешь второго.
Батя Анхар замолк, взгляд его пошёл бродить по столу. За спинами взрослых женщины ловили детей, чтобы уложить их спать. Снова послышалась обстоятельная речь:
— Я не мудрый старик и не шаман, но я всё равно дам тебе поучение, которое вертится на языке. Ты должен прикладывать свою доброту так, чтобы она давала плоды. Пустая добродетель хуже злобных мыслей, потому что даёт ложную надежду с одной стороны и покрывает всё туманом с другой. Ты идёшь и думаешь: крови на этом ноже сегодня не будет и за это Йер-Су должна благодарить меня. Жеребец думает: меня не будут колоть и моё сердце останется при мне. И он будет в два раза сильнее кричать и рваться с повода, когда придёт другой человек с ножом, потому что один раз уже родился заново.
Наран молчал. А потом опустился на колени и вдохнул истоптанный ногами войлок. Единственный оставшийся ус его подметал пол юрты. Веки хлюпали, будто почва после едва-едва прошедших дождей, но он ничего не мог с этим поделать.
— Спасибо тебе за важное поучение, отец. Я пронесу его через всю жизнь. Но я всё равно уйду.
Краешки губ бати Анхара от удивления поползли вниз. Отцом постороннего человека монгол мог назвать только в том случае, если он спас жизнь ему или кому-нибудь из ближних. Не важно, словом ли, делом или как-то иначе. Это самая большая дань уважения, которая возможна от одного человека к другому.
Урувай попытался сжаться в точку, превратиться в большого идола. Но его выдавала крупная дрожь. Наран поднял голову.
Ознакомительная версия.