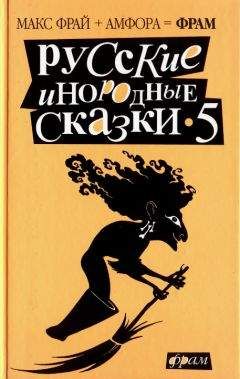Эту ночь он проводит под окнами, слушая и записывая на плёнку всё, что происходит в комнатах.
Сперва раздаётся голос мужчины, который узнать нетрудно, ведь расстались они всего каких-то пол часа назад. Мужчина жалуется на усталость, у него был нелёгкий день: «Не хочешь ли выпить, дорогая? Я уже принял пару рюмашек, но с удовольствием посижу с тобой, если…» В ответ раздаётся междометие, нечто среднее между «хм» и «угу», заставившее коллекционера насторожиться. У него абсолютная память на голоса, он знает, что слышал это «хм» или «угу», он даже знает уже когда и при каких обстоятельствах, но всё ещё не может поверить. В комнате включают телевизор, коллекционер узнаёт музыкальную заставку древнего телесериала из жизни врачей, медицинских сестёр и пациентов. Женский голос тихонько (словно бы про себя) произносит: «Вот и не упомню — выжил Пьер или нет…» Мужчина отвечает: «Его как раз должны прооперировать».
Под утро коллекционер возвращается домой — смертельно усталый, но чрезвычайно довольный собой. Чего стоила бы его коллекция без плёнки, записанной этой ночью…
Фекла Дюссельдорф
Старая Мо
Медленно-медленно тянется толстая нить. Темными пальцами с распухшими суставами старая Мо не торопясь собирает на длинную спицу непослушные петли. Коза Мо, полуслепая и старая, как сама Мо, неторопливо жует край набитого сеном тюфяка.
Ветер скрипит ставнями, и воет в трубе, как голодный и тощий зимний волк. Мо ворошит дрова в очаге, и берет новую лучину. Мо перебирает серые петли, пока ветер не стихнет, и Луна не поднимется над снежной равниной, круглая и белая, как блины, которые пекла Мо весной — когда была молодая. Некому теперь есть блины Мо. И до весны еще далеко.
Мо откладывает вязанье, поправляет тяжелую вышитую доху, и, шаркая тяжелыми негнущимися ногами, подходит к окошку. Нет, только снег — бесконечная зимняя вьюга, бесконечная зимняя ночь. Все древние Боги полегли в той долгой войне — только белые северные волки пришли их оплакать. Мо вздыхает, и подкидывает узловатые, как старческие руки, дрова в огонь. Мо одобрительно смотрит на законченное вязанье: хороший вышел платок, теплый…
Мо зевнула, и помяла в руках оставшийся моток. Мо стара и одинока, и длинна северная ночь. Мо снова взялась за спицы.
Вскоре маленькие нескладные человечки были готовы. Мо положила два тельца на стол, и оттолкнула любопытную козью морду. Мо взяла из очага два малых, еще теплых уголечка, и положила их человечкам на грудь. Влажная шерсть зашипела.
Потом Мо тяжело, по-старчески вздохнула, закуталась в толстый платок, и задремала. Тук-тук. Тук-тук. Вскоре побегут опять по снегу быстрые сани. Тук-тук. Тук-тук.
Дмитрий Ким
О происхождении романов
Хочется написать рассказ о повзрослевшем Буратино. О том, как он сидит в небольшом тихом кафе где-нибудь в центре Варшавы. На столе перед ним чашка кофе, в привычно негибких пальцах тлеет сигарета Лаки Страйк. Деревянное лицо не стало более выразительным с годами, нос не стал короче и не затупился. Взгляд одновременно усталый и целеустремленный. Он кладет сигарету на край пепельницы, чтобы извлечь из нагрудного кармана яркой куртки несколько предметов. Вот они лежат на столе: мальтийский паспорт, авиабилет до Индии с открытой датой, ключ из желтого металла, кредитная карта, обрывок салфетки с неразборчиво написанным адресом.
Двумя днями позже, ранним утром, он сходит с трапа аэробуса в аэропорту Нью-Дели. Таможня, банкомат, стоянка такси, он называет пункт назначения, поглядывая на обрывок салфетки. Дом выглядит заброшенным: стекла выбиты, некоторые двери сорваны с петель. Он поднимается по грязной лестнице, входит в квартиру. Освещая себе дорогу зажигалкой, он входит в чулан. На дальней стене — ветхая занавеска, изображенный на ней очаг с котелком почти невозможно разглядеть, за занавеской — маленькая деревянная дверь. Он делает движение, чтобы достать ключ, но видит, что в этом нет необходимости: дверь чуть приоткрыта. Он открывает ее настежь, уже зная, что будет дальше.
Несколько секунд Буратино неподвижно стоит перед открытой дверью, пока его огромная тень бьется в истерике на противоположной стене чулана. За дверью — кирпичная кладка, ровная, относительно свежая. Потом зажигалка выплевывает последний протуберанец сине-желтого пламени и гаснет.
Потом он долго сидит на ступеньках грязной лестницы. Чуть больше усталости, чуть меньше целеустремленности. Потухшая сигарета чуть подрагивает в углу деревянного рта. Он несколько раз щелкает зажигалкой, пытаясь выжать из нее еще немного огня. Бесполезно.
Вечером того же дня он сидит в открытом кафе напротив кукольного театра, ожидая окончания спектакля. Перед ним чашка кофе, пачка Лаки Страйк, новая зажигалка. Довольно жарко, но он нечувствителен к жаре. Затяжка за затяжкой, глоток за глотком, ровное небо над Нью-Дели как отражение пустоты в его голове. Телефонный звонок выдергивает его из болота нирваны.
Он вслушивается в незнакомый голос в трубке, пытаясь определить акцент собеседника, односложно выражает согласие. Достает ручку, вытягивает из вазочки на столе салфетку, записывает на ней новый адрес, придерживая плечом трубку. Закончив разговор, он некоторое время изучает салфетку, потом набирает номер агентства и заказывает билет на ночной рейс до Каира.
Чуть больше целеустремленности, чуть меньше усталости, он закуривает следующую сигарету, просит еще кофе. Первые звезды проступают в небе Нью-Дели, заканчивается спектакль в кукольном театре напротив, зрители спускаются по каменным ступеням, толкутся у входа, сбиваются в группы и исчезают в сумерках. Потом в дверях появляются Мальвина, Пьеро и Арлекин, и он встает, машет руками, свистит.
Они сидят за пластмассовым столом, пьют вино, разговаривают, перебивая друг друга, смеются, делятся новостями. Редко ты заезжаешь, раз в двадцать лет, тебе должно быть стыдно! Он искренне обещает бывать чаще. У Пьеро с Мальвиной двое детей, скоро заканчивают школу. Арлекин, не смотря на возраст, такой же забияка, так же гоняется за юбками. Неделю назад спьяну подрался с тремя полицейскими, было весело, Пьеро пришлось внести залог. А ты как, все ищешь свою дверь? Буратино пожимает плечами, кивает деревянной головой. Неловкая пауза висит несколько секунд, но потом: "А помнишь?.. А помнишь?.." — и Мальвина снова смеется, закидывая голову, и Пьеро иронично рассуждает о реальности театрального действа, и Арлекин, раскачиваясь на стуле, требует еще вина.