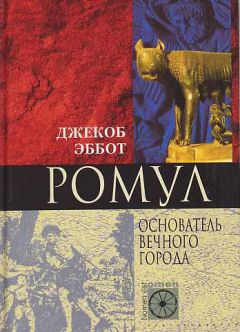Я поворачиваю голову.
– Он шевельнулся, – говорит центурион. Смотрит на меня, волосы у него дыбом. – Я видел.
Я молча разворачиваюсь и шагаю обратно – к мертвецу и к центуриону. К ним обоим.
– Где? – говорю я. Германец выглядит в точности так же, как и минуту назад. Изувеченное смертью бледное тело в синяках, с выступившими ребрами. Левая сторона покрыта растрескавшейся коркой высохшей крови. Ничего нового. Дышит?
– Тит, ничего тут не…
Мертвый германец вдруг открывает глаза.
Ох! Я отшатываюсь, падаю на задницу – прямо в лужу. Упираясь пятками, отползаю на два шага. Германец медленно, как во сне, моргает. Глаза начинают двигаться, словно пытаются найти меня. Потом германец начинает подниматься… Твою м-мать. Тит чертыхается так, что заглушает раскаты грома.
Он садится. Поворачивает голову, смотрит на нас с Титом. В мертвых глазах германца клубится вечность.
– Вот дерьмо, – говорит старший центурион потрясенно. И я не могу с ним не согласиться…
Тишина в эфире, говорите? Боги не отвечают на вопросы, говорите?!
Боюсь, мы получили ответ.
Я встаю.
Однажды, когда я учился в Греции, мне объяснили, что такое красота.
– У вас, римлян, не религия, а нагромождение суеверий, - говорит мой учитель-грек, неспешно прогуливаясь. Вокруг тропинки растут кипарисы, а с высоты обрыва видно яркую лазурь моря. - В том, во что вы верите, нет стройности, нет смысла, нет ясности и гармонии. И это объяснимо. У суеверий не может быть системы.
Вы верите в гадание по птицам, вы принимаете чужих богов, вы не можете из дома выйти, прежде чем не принесете жертву и не узнаете от жреца, стоит ли вообще это делать.
Отсутствие стройности - это не-красота. Во всем должна быть красота.
– А что это такое? - спросил я тогда.
– Красота - это смерть, - вот что ответил мне грек-философ. - Допустим, ты оборачиваешься и видишь великолепную статую… или прекрасный вид… нет. - Грек смотрит на меня, понимающе улыбается. - Хорошо, давай выберем пример нагляднее. Представь, Гай, ты оборачиваешься и видишь…
– Прекрасное здание? Статую? Отличный вид? - говорю я.
– Девушку.
Я открываю рот. Грек смеется.
– Девушку, Гай, девушку. Такую, что у тебя при взгляде на нее перехватывает дыхание. Ты когда-нибудь видел такую? Когда смотришь на нее, весь мир исчезает. Все исчезает. Есть только она, настолько красивая, что когда ты, Гай, сможешь дышать снова, то готов будешь кричать, словно младенец, только что появившийся на свет.
Понимаешь, мальчик? Смерть связана с отсутствием дыхания, чувством потери и неподвижностью. За ней следует новое рождение.
Поэтому я говорю: настоящая красота - это смерть.
Это короткий миг, когда тебя не было.
* * *
– Легат, смотрите, – говорит Волтумий. В его голосе не осталось ничего человеческого.
Левое веко германца подергивается, все тело сотрясается, словно в припадке падучей. Еще бы… он же умер. Мертвец смотрит на меня – я отшатываюсь. Вынести этот взгляд невозможно. В глазах германца тлеют отблески огня Преисподней.
Растрескавшиеся губы варвара с трудом разлепляются:
– Васс… васса…
– Он просит воды, – поясняет Волтумий зачем-то.
Я поворачиваюсь, иду к лошадям. Один из рабов сидит верхом, держит остальных лошадей, другой рядом, закрыв лицо руками. Его бьет дрожь. Ну, знаете, я тоже не обрадован тем, как все вышло.
– Хозяин!
– Все хорошо, – говорю я. – Вы молодцы, скоро поедем обратно.
Моя кобыла нервничает. Заставляю ее стоять ровно, снимаю с седла фляжку – болтаю. Булькает. Что-то есть. Возвращаюсь. Краем глаза замечаю движение, поворачиваю голову…
Другой бежит к лесу, оглядывается – лицо белое-белое – и снова бежит. Решил податься в бега? Идиот.
Я возвращаюсь. Германец сидит скрюченный. При моем приближении поднимает голову. Меня передергивает. Что я там говорил про бога из машины?
Да уж, «машина» сработала так сработала.
Воробей, думаю я. Все дело в Воробье.
Показываю германцу фляжку. Он смотрит, задирает подбородок. Поднимает руку, движения дерганые, неловкие. Я кидаю фляжку, германец пытается поймать… М-да. Фляжка ударяется в ладонь и отлетает. Катится, вода льется на дорогу… Отлично. Мертвый германец мычит.
Ну что поделаешь.
– Тит! – окликаю центуриона. Он молчит.
Я поднимаю флягу. Сажусь рядом с мертвецом, преодолевая отвращение.
Открываю крышку и подношу ему к губам. Он не может пить. Я лью по чуть-чуть. Варвар фыркает и все равно захлебывается, начинает кашлять. Вода выплескивается ему на синюшную грудь. Бульк. Он пытается взять фляжку сам, я отстраняю его руку. Его пальцы сжимают, словно пытаются ухватить воздух. Еще.
И еще.
Какой упорный варвар, однако. Я всовываю фляжку ему в пальцы – они сжимаются так, что белеют ногти. Варвар медленно подносит фляжку ко рту, начинает пить. Кажется, что с каждым мгновением он действует все уверенней.
Германец допивает воду, обливаясь и кашляя. Голый, весь в синяках и страшный.
И начинает вещать. Я ничего не понимаю.
– Тит, что он говорит… Тит!
Центурион молчит. Я заглядываю ему в лицо. Взгляд стеклянный.
– Старший центурион?
Молчание. Вдалеке грохочет гром.
Ах, так…
– Равняйсь! – ору я так, что у самого закладывает уши. – Смирно!! Равнение на! Орла!
Центурион вздрагивает. По привычке вздергивает голову, ищет глазами золотой символ легиона. И тут понимает. Взгляд становится осмысленным. Центурион моргает.
– Легат, я…
– Сейчас не время извиняться, Тит. Что он говорит?
Варвар снова начинает хрипеть и щелкать. Тит Волтумий слушает. Смотрит на меня и произносит с издевкой:
– Что презирает нас, паршивых толстых римлян.
– Он это уже говорил, – замечаю я. От внезапно нахлынувшей слабости кружится голова. – Это уже скучно… может, пусть лучше споет нам песню, а? Что думаете, центурион?
– Думаю, он не станет. – Центурион вздыхает.
Германец оскаливается – видимо, это усмешка.