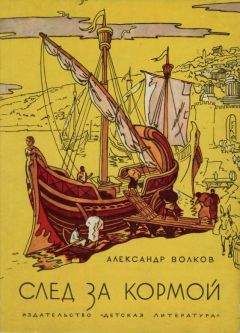По проходу медленно шел священник. Он заметил Хильдрид, сидящую на одной из передних скамей, и подошел, решив, что это прихожанин, желающий исповедаться или о чем-то спросить. Священник нагнулся к ней и постучал костяшкой пальца по скамье. Она вздрогнула и, возвращаясь сознанием из неизмеримых далей отвлеченных образов, перевела на него ошалевшие глаза.
— Ты пришла побеседовать, дочь моя? — мягко спросил священник.
— Нет, — ответила Хильдрид медленно, сама себе удивляясь. — Я пришла, чтоб ты меня крестил.
— Крестил? — удивился священник. — Прямо сейчас?
— Да. Прямо сейчас.
— Но... Но ты понимаешь ли последствия принятого решения, дочь моя?
— Да. Я всегда отвечаю и за слова свои, и за поступки, — проговорила женщина и вдруг испытала огромное облегчение. Шаг сделан, как в воду головой, на попятный она не пойдет ни за что. И теперь, когда пути к отступлению не было, не о чем больше было волноваться — словно гора с плеч. Наверное, самое трудное — решиться.
— Ну, что ж... — ответил ошеломленный священник. Он знал этих норманнов — они часто крестились, чтоб получить подарки от монахов, или чтоб облегчить себе торговые контракты, словом, из практических соображений. Но он знал, что эта женщина — воин, а не купец, что она пришла одна, и не ради подарков, потому что подарков он не обещал. Может, конечно, ее цель — облегчить общение с королем-христианином, получить земли и титул, но почему тогда рядом нет Эадмунда и свиты? Король любил играть роль проповедника, просветителя и миссионера. И где свидетели, в конце концов, которые подтвердят королю, что женщина действительно стала христианкой? Она здесь одна. А значит, искренна.
— Ну, что ж, — повторил священник уже бодрее. — Подожди, я подготовлю все, что нужно.
И Хильдрид осталась сидеть на лавке. Она спрятала лицо в ладонях и замерла. Женщине показалось, что она ненадолго уплыла в сон. Ласковый сон, мягкий, как весенний солнечный свет. Ею овладела усталая истома, и не хотела ни двигаться, ни думать — просто сидеть и ждать.
Все, что было необходимо для крещения, собрали с удивительной быстротой. Наполнили купель ключевой водой — эта чаша со строгим узором, шедшим по краю, была огромная, каменная, установленная в конце левого нефа раз и навсегда. Принесли и красивый ларец с резной крышкой, и золотую чашу, и блюдо, и еще что-то, что Гуннарсдоттер уже не разглядела. В храме появилось несколько монахов в длиннополых одеяниях, священник о чем-то говорил с ними. Потом появилась небольшая черная суконная подушечка, шитая алыми цветами и крестами — на ней лежал маленький крестик и цепочка, серебряные, дорогой подарок монастыря.
Она не произнесла больше ни слова, кроме положенных, и священник, боясь, как бы женщина не передумала, не произносил ни слова. После взял ее за руку и повел к купели. Он долго говорил ей о том, что есть святое крещение, и что должен делать человек, чтоб быть добрым христианином — она не слушала. Внутренний взгляд уплыл в глубины памяти, и теперь перед ее глазами вздымались бурные волны, которые, казалось, оплескивают грозовое небо, и сквозь складки синих облаков, подобных складкам век, на нее смотрели чьи-то глаза.
Как давно это было... Как давно чудилось ей, что сквозь облака, смыкающиеся, чтоб пролиться дождем, чтоб повеять сметающими все порывами ветра, на нее смотрит некто, кто сам собой — целый мир. Давно. Головокружительно давно. Тогда еще был молод Регнвальд, и они даже не были женаты.
Хильдрид помогли снять пояс и верхнюю рубашку, отделанную тесьмой, позволили оставить только нижнюю, из небеленого полотна. Священник монотонно читал что-то на непонятном языке — женщине чуть раньше объяснили, что это латынь, язык, на котором прежде говорили лангбардаландцы. Она не понимала ни слова, но за ее спиной встал один из монахов — молодой мужчина с постным лицом и темными, как торфяная вода, глазами. Он шепотом переводил ей на саксонский язык слова успевшего облачиться в красивое, шитое золотом облачение священника и подсказывал формулы ответов.
— Хильдрида, что просишь ты у Церкви Господней? — величественно спросил священник.
— Веры, — пробормотал за спиной Гуннарсдоттер монах.
— Веры, — повторила она.
— Что даст тебе вера, Хильдрида?
— Вечную жизнь, — по подсказке не замедлила ответить женщина.
И задумалась. Вечную жизнь? Тот, с кем она говорила в своем странном сне, осыпанном звездами, говорил ей о бессмертии. Успокоенная этим воспоминанием, дочь Гуннара увереннее взглянула на суконную подушечку с крестом, как на знак своего будущего.
Священник подул, выпячивая губы. Монах, стоящий за спиной Хильдрид, объяснил ей, что так положено — таким образом изгоняется злой дух. Затем последовало возложение рук, крупинки соли, которые священник, проводящий обряд крещения, аккуратно положил ей на губы — они символизировали милость Божью, как объяснил женщине монах — а потом и церемония изгнания бесов. Священник медленно, тщательно выговаривал слова молитв, чтоб Гуннарсдоттер могла повторить их, и она послушно повторяла. Латынь звучала, как отлично откованная сталь, и этот необычный язык неведомого ей народа показался единственно подобающим для беседы с Богом.
— Хильдрида, отвергаешь ли ты сатану?
— Отвергаю.
— И все деяния его?
— Отвергаю.
— И все прелести его?
— Отвергаю.
— Хильдрида, признаешь ли ты учение Святой Церкви?
— Признаю.
— Хильдрида, принимаешь ли ты крещение?
Хильдрид почему-то было очень неловко. То ли оттого, что слова, которые говорили ей, и которые произносила она, звучали странно, то ли оттого, что она вошла под своды, где ей не место. Она взглянула вверх, на цветное окошко, которое бросало на пол перед ней и на самый край купели яркие блики. Одно из стеклышек было вынуто или выбито, и вниз тонкой струйкой спускался свет, живой и подвижный, как настоящий осколок Святого Духа.
Священник, глядя на нее пристально, зримо начинал беспокоиться, а нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Но она ничего не видела. К ней все ближе и ближе подступала золотистая полоска света — в ней, как грани стеклянного резного кубка, переливались мелкие пылинки, и воздух, казалось, наполнялся неслышным пением.
— Хильдрида, принимаешь ли ты крещение? — повторил священник.
Камень, из которого был сложен храм, давил на нее — она терпеть не могла каменных строений. Ее собственное тело, казалось, потеряло вес. «Ты просто устала, — подумала она. — Очень устала. И раны дают о себе знать. Успокойся». Столбик света, тонкий, как пряжа, которая еще не легла в нитку, все приближался, и наконец коснулся ее лица. Он был теплый, как ладошка ребенка.