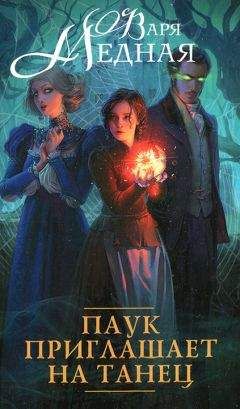Уже в дверях я обернулась и вспомнила о последнем средстве. Если уж проверять, так до конца. Памятуя о прошлом разе, когда обожгла руки кровью, я внутренне сжалась, но приложила ладони к стене и закрыла глаза. Сперва я вздохнула с облегчением, не почувствовав ничего страшного, а следом — с разочарованием: поход вышел впустую. Под пальцами ощущались лишь холодные, полированные сыростью и пылью доски. Ещё пару минут я постояла, скрупулезно проверяя песчинки, из которых состояла стена, и всё больше задумываясь. Обычная энергия, исходящая от материи, правда, непривычно структурированная. Будто погружаешь пальцы в фонтан, струи которого перемешаны: всё та же вода, но течёт по-другому…
Я открыла глаза и отшатнулась, прижав руку ко рту и уставившись во все глаза на стену перед собой: оттуда на меня, усмехаясь, глядело огромное лицо Кенрика Мортленда. Художник, а вернее художница (только Матильда могла так скрупулезно воспроизвести все детали) отразила его так точно, как это было возможно. Будь на моём месте кто-то другой, он бы не узнал графа. Но у нас с Матильдой схожие вкусы, и она видела его почти так же, как я: однобокая ухмылка, обнажавшая треугольник ровных зубов, тяжелые скулы и глубоко посаженные, буквально прожигающие насквозь глаза. Ярко-синие у графа, тут они сверкали так, что было больно смотреть.
Поэтому ощущение от стены и было таким путаным. В общем соотношении ничего не поменялось, просто какая-то часть энергии была приглушена, а другая вытянута наружу, с тем, чтобы составить портрет. Линии горели и переливались, будто художница макала кисть в огонь вместо краски. По сути, так оно и было: Матильда потеряла голову настолько, что, презрев все запреты, использовала для этого свою искру, вложила в рисунок часть себя. С тем же успехом она могла макать кисть в своё сердце.
Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что мистер Фарроуч говорил правду. По крайней мере, в той части истории, которая касалась увлечения Матильды. А учитывая её порывистость и беспринципность графа, их общение едва ли осталось в рамках дозволенного. Без сомнения, Кенрик Мортленд не преминул воспользоваться ситуацией. И если раньше всё ограничивалось только догадками и подкреплялось умозрениями, то теперь у меня на руках (вернее, на стене) было вещественное доказательство. Подумав, я вернула комнате прежний вид и покинула домик.
Уже подступали сумерки: тени вытянулись, верхушки деревьев качались, и дул сильный ветер. Он колоколом расправлял подол моего платья и, пока я спускалась, казалось, хотел отлепить пальцы от скользких рукояток, сорвать меня вниз, швырнуть о землю. Наконец я благополучно спрыгнула с последней ступеньки. Кинув прощальный взгляд на плывущий в кроне корабль, я направилась к дому.
По дороге я ещё раз всё обдумала и решила не обращаться к инспектору. Граф наверняка ничего не скажет под давлением. Скорее наоборот, сделает всё возможное, чтобы я никогда не дозналась истины. Я сделаю по-другому: поговорю с ним лично и пообещаю никому ничего не рассказывать, лишь бы он открыл, что сталось с Мэтти.
Приближалось время пятичасового чая, но в доме было непривычно тихо. Поднявшись к себе, я обнаружила дверь комнаты приоткрытой. Красть у меня нечего, но мысль о том, что кто-то копался в моих вещах, меня обеспокоила. Я поспешила внутрь и тут же обнаружила, что непрошеный гость не только ничего не унёс, но, напротив, принёс. На аккуратно застеленной кровати лежало огромное красное, как грудка снегиря, яблоко. Не составило труда догадаться, от кого оно. С Вауханом мы не говорили уже два дня, с той памятной встречи на кладбище. А доставила яблоко наверняка Грета. Только она могла проскользнуть сюда так незаметно.
Я села на кровать и потянулась к яблоку. Оно развалилось у меня в руках на две ровные половинки. На одной было вырезано «в 11», на второй «у калитки». Буквы были выведены старательно, как по трафарету. Покоричневевшие от сока бороздки казались процарапанными ржавым гвоздем.
Послание было красноречивым: Ваухан хотел встретиться со мной сегодня в одиннадцать возле калитки, к которой уже дважды меня провожал. Размышляя над тем, что он хочет мне сказать, я спустилась в кухню.
Есть яблоко мне не хотелось, поэтому я срезала верхний слой с посланием и кинула к очисткам. Остальную же часть решила отдать Симоне, на пирог. Сегодня даже прислуга притихла, и если и обсуждала сплетни, то очень приглушенно.
Ища глазами, куда бы положить яблоко, я заметила на столе перевёрнутое донышком кверху глубокое эмалированное блюдо, с голубым четырехлистником сбоку. Недолго думая, я перевернула его, но тут же отшатнулась с громким криком. Под ним оказалась широкая плоская тарелка, присыпанная толстым слоем муки, как снегом. В ней ползали жирные виноградные улитки, бороздя склизкие дорожки и поводя усиками с капельками на концах.
— Рано ведь ещё! — укоризненно всплеснула руками Иветта и бросилась к столу, жадно вглядываясь в отвратительный узор на тарелке. — Что тут у нас?
К моему удивлению, рядом тут же столпились все, кто был в кухне. Но ни один из них не выглядел таким же пораженным, как я, и в лицах не читалось отвращения — только любопытство.
— Кажется, «И», — изрекла Кларисс, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому.
— Да нет же: «Л».
— А по мне так «Р», и никак иначе.
Долговязый Вилмот заглянул поверх голов и уверенно выдал:
— «Д». Точно говорю.
— Неужто? — воскликнула Беула. — Уверен?
— Конечно, — невозмутимо кивнул старший лакей. — «Д» — то есть «дуры».
На него тут же закричали, замахали руками, оттеснили от стола и выгнали из кухни.
— Да что происходит? — не вытерпела я.
Мне показалось, что я нахожусь в одном из своих снов, когда все вокруг говорят с умным видом совершенную бессмыслицу, несвязный набор звуков.
— А разве у вас так не делают? — удивилась Симона.
— Как так? Не прикармливают улиток мукой?
Ответом мне был общий смех.
— Да нет же, — отхохотавшись, пояснила Иветта. — Это такое гаданье! Шепчешь: «Мудрые улитки, судьбу подскажите, суженого-ряженого укажите», а потом ждёшь, пока они напишут имя будущего жениха. Ну то есть, конечно, не всё имя целиком, но в следах непременно можно увидеть первую букву.
Я с сомнением взглянула на мудрых улиток, с глубоким безразличием взиравших на поднявшуюся вокруг суету.
— А это вообще считается? — задала новый вопрос Беула. — Ведь перевернула-то мисс Кармель, а не я. Так кому гаданье получается — ей или мне?
Все тут же призадумались.
— Видать, всё-таки ей… — отозвалась Нора.