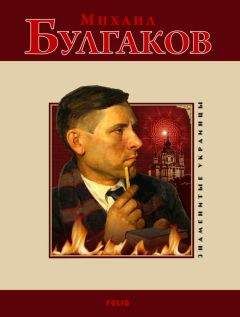Мы ужасно долго так сидели. Часы на башне пробили четверть одиннадцатого, потом — половину, а мы все ели орехи и не могли больше ничего сделать.
В конце концов я сказал:
— Сударыня, я спать хочу. Я тут лягу на краю, ладно?
А Розамунда посмотрела на меня презрительно и говорит еще холоднее и ядовитее, чем раньше:
— Вы, значит, совсем не мужчина? Да?
Я говорю:
— Вы решите для себя, сударыня, кто я — похотливая скотина или вообще не мужчина. А то нелогично.
И Розамунда ответила:
— А, так значит, это вы решили надо мной поиздеваться? Показываете, что я вам не нужна? Так вот, не подумайте, что я желаю ваших ласк, сударь! Просто все должно делаться по обычаю, если вы не помните. И иначе — я не знаю, какими глазами буду смотреть завтра на вашу мать.
— У вас что, — говорю, — несколько пар глаз?
Розамунда вздохнула устало, и глаза — единственная пара — у нее наполнились слезами, а я подумал, что можно было сарказм и приберечь для другого случая.
— Да я ничего такого не имел в виду, — говорю. — Я же не слепой, вижу ваши неземные совершенства… и это… запредельное изящество.
Из нее на мгновение радость полыхнула, этакой вспышкой — р-раз и нет. Я подумал, что правильный комплимент вспомнил и что стоило свеч читать романы.
Я сейчас понимаю: я тогда подтвердил ей, что у меня одна похоть на уме. Но тогда…
Я ужасно долго расстегивал крючки у нее на роброне, корсет ей расшнуровывал, потом — вытаскивал затейливые штуки вроде тонких длинных гвоздей у нее из прически и думал, что камеристкам нелегко живется. А Розамунда передергивалась, если я случайно дотрагивался до ее голого тела.
И я пытался себе представить, как это можно делать, не прикасаясь. Я уже понял, что это будет не весело. И не… как сказать… не будет греть. Что это будет не игра, а работа, причем тяжелая и неприятная.
Потому что, если тебе нужно делать что-то против воли, это моментально превращается в работу. Даже любовь.
И оказалось, что я совершенно прав. Потому что Розамунда не хотела, чтобы я ее целовал, дергалась, когда я пытался ее обнять, и отчаянно старалась на меня не смотреть. И когда мы кое-как отработали этот кошмарный ритуал, оставаться рядом не было сил. Я думаю, мы оба казались себе гадкими, замаранными.
А я к тому же не мог избавиться от мысли, что ранил Розамунду. Крови оказалось немного, но от тяжелых ран бывает и меньше. И мне было тошно, жалко, тоскливо, душно, зло — короче, я чувствовал что угодно, только не хваленую похоть.
И мы легли спать, отодвинувшись друг от друга так, как только ложе позволило. Я слышал, как Розамунда ворочается и всхлипывает, мне ужасно хотелось подать ей руку или сказать что-нибудь доброе, вроде «Не берите близко к сердцу, сударыня», но я уже знал, что это бесполезно.
Те Самые Силы получили свой сладкий кусок. Теперь надо было жить дальше.
Так и началась эта моя новая жизнь.
Следующий день после свадьбы принес сплошной позор, и могло ли быть иначе? И через день был позор, и была тоска. Но, слава Господу, я выяснил, что мне можно не спать в спальне Розамунды каждую ночь, — и мы разошлись жить по разным углам.
Так все и пошло. Розамунда жила в кабинете для рукоделия, там у нее — свита, камеристки, чтица, там ей читали вслух слюнявые баллады о неземной любви и рыцарские романы, в которых у героев дивная стать… А она тем временем вышивала наалтарный покров с ангелочками для дворцового храма.
А я жил в библиотеке. Или на башне. Или шлялся по дворцу, подглядывал и подслушивал. Меня не посвящали ни в какие дела. Я попытался перед Большим Королевским Советом намекнуть отцу, что не худо бы и меня пригласить, я же наследный принц все-таки, но он на меня так рявкнул, что у меня отпала охота спрашивать.
— Будешь делать только то, что я велю! Подлый выродок, даже заикаться не смей! — что-то в таком роде.
Я больше заикаться не стал. Я хорошенько рассмотрел помещения, примыкающие к Залу Совета, и нашел одно с интересным акустическим эффектом. И с тех пор присутствовал, только без лишней помпы. Так появилась еще одна политическая проблемка, о которой отец не знал.
Я очень внимательно слушал. А после Совета шел в библиотеку, доставал карты Междугорья и окрестных земель и все сопоставлял. И еще у меня был давно спертый из библиотеки трактат Хенрика Валлонского «О разумном управлении финансами», и я его штудировал не хуже, чем заклинания. Я же отлично понимал: Дар Даром, но деньги тоже нужны.
Книжка была совсем новенькая, когда я ее украл. А теперь выглядела довольно неказисто — но зато я мог ее читать наизусть с любого места, как Священное Писание. Хенрик Валлонский был мой единственный авторитет, кроме некромантов древности.
С помощью моего учителя и карт я потихоньку разобрался во всех политических сложностях. На это уходила адова уйма времени, у меня иногда просто мозги закипали, когда я пытался сообразить, какой тайный смысл заключен в какой-нибудь простой новости и что она дает, но я кожей чуял, что это пригодится.
Потому что я понял: никто из вассалов не смел впрямую врать моему папеньке. Но они говорили, чуть-чуть меняя ударения, — и он думал, что все прекрасно, а вокруг была полная задница. Самые невинные вещи оборачивались самыми подлыми интригами.
Три законченных подонка — премьер, канцлер и казначей — обворовывали моего батюшку заодно с Междугорьем так, что комар носа не мог подточить, а все потому, что они тоже читали старика Хенрика, а батюшка читал «Рассуждения о соколиной охоте» и «Достоинства породистых лошадей».
Я пока ничего не мог сказать. Но я по-прежнему принимал все к сведению. Я очень уважал этих троих, но уже тогда был совершенно уверен, что прикажу их повесить, как только надену корону. В казне не хватит денег, чтобы платить им жалованье в тех масштабах, в которых они воровали.
Два или три раза в месяц меня ловил личный лекарь Розамунды, чтобы сообщить, что сегодня сударыня будет ожидать меня в своей опочивальне. Это были какие-то ее особые дни, которые вся эта компания рассчитывала по звездам или еще по чему-то, дни, когда мы могли наконец подарить Междуречью продолжение династии. Этих дней я через некоторое время ожидал, как приступов зубной боли, а после них мне снились кошмары, настолько же страшные, насколько и неприличные.
А Дар…
С тех пор как я убил Людвига, все эти серебряные безделушки перестали мне мешать. Я обрел над Даром абсолютный контроль. У меня пока не хватало фантазии и опыта на то, чтобы его применить, но я уже ощущал смерть всем телом — и она мне подчинялась. Вот кто был моим единственным другом в те поганые времена, когда даже мой собственный камергер и то служил мне из-под палки и болтал гадости за моей спиной.