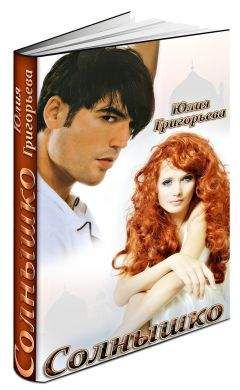Та, о которой шла речь, сидела на другом конце стола, стыдливо потупив очи. Лесана перехватила восхищенный взгляд Тамира. Девушка и впрямь была хороша: темные волосы, забранные в две косы, вились мелкой волной, трогательно взведенные брови над огромными глазами делали лицо беззащитным и детским, а кожа у нее была чистая, нежная, с едва заметным пушком.
Будущая лекарка застеснялась материнской гордости и обхватила руками узкие плечи. От этого движения Тамир вдруг подался вперед, стягивая с себя вязаную безрукавку:
— Озябла?
Девушка залилась краской и замерла, позволяя набросить необъятную одежу поверх своей нарядной вышитой рубахи. То ли парень ей и вправду понравился, то ли не хватило смелости возразить, Лесана не поняла, но прониклась к застенчивой девушке симпатией.
Устраиваясь спать не на жесткой земле, а на устланной сенником скамье, дочка гончара впервые за последние дни вдруг подумала, что все еще, возможно, будет хорошо. Тоска по дому за время странствия настолько высушила ее душу, что сейчас в ней родилась другая потребность — радоваться хоть чему-нибудь. Потому что нельзя только страдать и сокрушаться. Не на казнь же ее везут, на обучение! Вон, село Айлиши как ликует, да и сама она рада выпавшей на ее долю удаче. Интересно, кто ее крефф? С этими мыслями измученная странница провалилась в сон.
Уезжали они наутро. Креффом Айлиши оказалась молодая женщина с таким же холодным выражением лица, что и у двух ее спутников. Но… рядом с обезображенным Клесхом, рядом с застывшим, словно высеченным из камня, Донатосом обережница смотрелась, как нежный ландыш между двух чертополохов. У нее была белая подсвеченная изнутри нежным-нежным румянцем кожа, тонкие высокие брови и такие длинные ресницы, каких Лесана в жизни своей не видела. Казалось, моргай они быстрее и чаще — взлетит.
Однако когда красивые руки колдуньи отбросили наголовник накидки, дочка гончара едва сдержала удивленное восклицание — льняные волосы женщины оказались остриженными так же коротко, как у мужчин.
Но главное потрясение настигло будущих учеников Цитадели тогда, когда стали рассаживаться по седлам. Крефф Айлиши, оказалась одетой… в штаны. Обычные кожаные мужские штаны! Тамир густо покраснел, поскольку отчетливо увидел то место, где сходились ноги Осененной. Впрочем, она не заметила смущения юных спутников, спокойно разобрала поводья и тронула свою кобылу пятками, направляя прочь из села.
Лесана с ужасом смотрела женщине в спину, сама-то она, как полагается, была одета в девичью рубаху, широкую разнополку и вязаные чулки. И в голову бы ей отродясь не пришло напялить мужские порты и в этакой срамоте появиться на людях. Но обережница спокойно покидала место ночлега, словно не замечая, как провожающие их бабы и мужики стыдливо отводят взгляды.
Креффы ехали впереди, а за ними тянулись будущие ученики
Жеребец Тамира шел стремя в стремя с Айлишиным, и юноша уже о чем-то негромко беседовал со спутницей. Лесана почувствовала себя брошенной. Нет, не потому, что уже забыла Мируту, просто ей стало одиноко оттого, что она была лишней рядом с этими двумя. К счастью, Айлиша, почувствовав ее уныние, придержала коня и поравнялась с новой знакомой. Она еще накануне заметила, что у Лесаны на щеках темнеют следы застарелых кровоподтеков.
— Хочешь, полечу? — предложила, зардевшись от собственной смелости.
— А ты можешь? — удивилась спутница.
Она-то сама ничего этакого не умела, да и не думала никогда, будто спит в ней какой-то особенный дар.
— Чуть-чуть, — призналась девушка, краснея еще гуще, — но синяки уберу.
— А больно будет? — с детской робостью уточнила Лесана.
— Нет, — замахала маленькими ладошками Айлиша. — Дай руку, не бойся.
Дочка гончара протянула ей ладонь, и от пальцев до скулы словно пробежали по крови пузырьки воздуха. Щекотно!
Но вот Лесана недоверчиво прикоснулась к щеке и восхитилась:
— Не болит! Совсем!
— Я знаю, — потупилась будущая лекарка, — я так скотину лечила…
И тут поняв, что сказала глупость, закраснелась пуще прежнего, а Тамир отчего-то посмотрел на Лесану с такой гордостью, словно сам избавил ее от синяков.
Оставшиеся дни пути прошли незаметно и однообразно. С той лишь разницей, что теперь место ночлега заговаривал Донатос, и Лесане больше не приходилось засыпать с измаранными в крови щеками. Колдун читал какое-то заклинание, очерчивал привал ножом, и путники спокойно ложились.
А дочка гончара с удивлением ловила себя на том, что впитанный с молоком матери страх — очутиться ночью за пределами дома — как-то притупился. Глупо было бы, имея в спутниках троих Осененных, по-прежнему бояться Ходящих В Ночи. Да еще за день она уставала так, что засыпала без всяких сновидений, и если даже кто-то и подходил к месту их ночевки под покровом тьмы, измученные путники этого не слышали.
И еще надо сказать, целительница, которую звали диковинным именем Майрико, вела себя так же, как и мужчины. Спутники не пытались облегчить ей — нежной и хрупкой — тяготы пути. Впрочем, несмотря на свою кажущуюся уязвимость, крефф Айлиши не была слабой. Она одна уходила вечером в чащу и — о, ужас! — даже без стеснения переодевалась при мужчинах, демонстрируя восхитительное нагое, белое, словно кость, тело. Тамир каждый раз заливался такой отчаянной краской, что становилось страшно — не брызнула бы из щек кровь.
* * *
Последний день странствия выдался не по-весеннему теплым. Солнце грело так ласково, словно на смену месяцу таяльнику пришел даже не зеленник, а сразу цветень. Теплые свитки показались жаркими, как овчинные тулупы, и будущие выучи с облегчением сбросили их, втайне радуясь, что не видят матери, которые обязательно бы принялись бранить. Креффам же было все равно, а Лесана с Айлишей, пользуясь тем, что никто из деревенских кумушек не закудахчет над ухом, сняли с голов платки и даже слегка распустили волосы.
Тамир, нет-нет, украдкой, бросал взгляды на своих спутниц, невольно сравнивая их друг с другом. Чего, казалось бы, разного: то девка и то девка — по две руки, по две ноги, по косище. Вот только если дочка гончара — румяная сдобная, мягкая, словно только что вытащенный из печи каравай — вызывала в душе юного пекаря теплое любопытство, то юная лекарка с нежным румянцем, подсвечивающим смуглую кожу, с темными завитками волос над открытым лбом, казалась сладким коржиком.
Он и смотрел на нее, как на дивное лакомство, когда и отведать хочется, и страшно прикоснуться… Вот отчего так? И юноша простодушно гадал про себя — в чем же дело? Смотрел то на одну, то на другую, но ответа не находил.