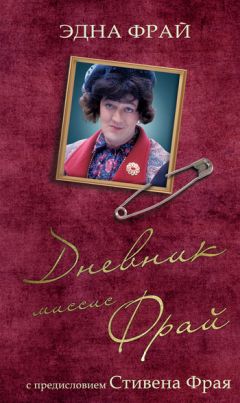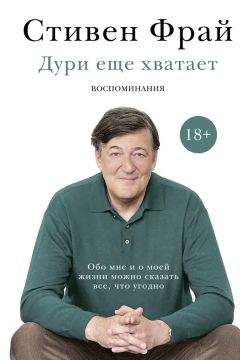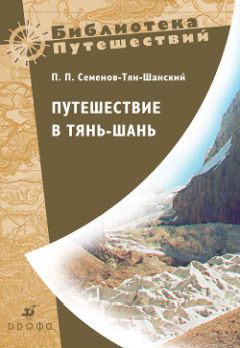Чебурашки, Щеголихи, Дяди-Вавади — каждое подобное существо имеет свою кличку в микрорайонах — с детства вызвали во мне кромешное бешенство вперемешку с ужасом.
Нет, я знаю, мне говорили, что хромые внидут первыми, что нищета угодна Господу, одень нагого, накорми голодного, посети заключенного, похорони мертвого. Я готов одевать, кормить, посещать и хоронить. Но как быть с той нищетой, которая хочет оставаться в профессиональной своей грязи, даже если осыпать ее камешками из запасников Алмазного фонда?
При этом я способен неделями ухаживать за смертельно больными людьми, старыми маразматиками, инсультниками, — их пот, моча, кал, сопревшие простыни, рвотные массы не вызывают у меня отторжения, я могу не морщась подмывать их или выносить и мыть судна, что на деле подтверждено неоднократно.
Их запах — сигнал бедствия, но не внутреннего добровольного скотства и агрессии. Пару раз сталкивался с безумными людьми, — характер их безумия зависел от их прежней личности. Видел я и сумасшедших, которые были растворены в счастье своего безумия: они или не замечали окружающих, или были добры и привязчивы, но помню и существо мужского пола, которое про себя я прозвал "могильный боров", есть такой призрак в скандинавской мифологии — могильная свинья. Свинью хоронили заживо, закладывая новое кладбище, как жертву земле, которая вскорости примет человеческие тела.
Могильный Боров был очень силен и нечистоплотен. Обычно в отделении неврологии таких пациентов не держат: что ему делать среди инсультников и гипертоников, все-таки не Канатчикова дача; впрочем, это мало кого волновало.
Могильный Боров днем сидел на своей койке и не мигая смотрел в окно, спустив желтые грибковые ступни на линолеум. Ночью он оживлялся. Дожидался вечерних процедур и, когда гасили свет, подбирался к моему изголовью, вставал, опираясь пижамными локтями на спинку кровати, и размеренно говорил: "Молодой, а молодой? Ты слушай. Тут есть такая ночная нянечка. Она на смену заступила уже, ее днем не бывает. Она такая, в общем, без головы. Она за жмуриками место моет. Она сейчас за тобой место мыть придет".
Гнусную чушь Могильный Боров нес не только мне — любил пристраиваться к постелям стариков, тех, кто вовсе на ладан дышал, — запугивал до слез.
В первую ночь я тоже перепугался, был еще очень слаб, едва поднимался в сортир.
Через пару ночей — привык. Через неделю — осточертело, и я не открывая глаз выматерил Борова и выдал ему взамен матерную байку, которую цитировать не стану. Больше он ко мне не подходил и вообще слезал со своей койки ночью только по нужде.
Ближе к выписке я стоял рядом с Могильным Боровом в курилке. Он был в уме, травил армянские анекдоты и стрелял сигареты. Когда я спросил его, какого человеческого полового хуя он нес старикам белиберду про безголовых нянек, Боров пожал плечами: "Нравилось".
Неподалеку от больничного корпуса жгли кучи осенних листьев.
И если бы не их запах, вряд ли я вспомнил бы сейчас о йодной решетке и трех грациях, нимфах, музах, которых, я, как занюханный Аполлон Мусагет, таскал за собой, куда бы ни шел.
Лет десять тому назад, находясь в состоянии наркотического опьянения (обстоятельное определение, подсмотренное мной в гигиенической брошюре в поликлинике), я пренебрег данным мне заранее советом и подошел к зеркалу.
По молодости я, как и многие, носил длинные волосы. Лица моего отражения я не запомнил: заворожен был обособленной жизнью волос — так всплывают пряди утопленника в воде, распускаются хризантемой, по-горгоньи топорщатся, подтверждая на деле жаргонное словечко «шевелюра». Кобры, виноградные лозы, золотое плетение ирландских узлов, иероглифы египетской скорописи.
Любовался я заклинанием змей долго, а потом решил, что ради пущей фееричности зрелища, волосы необходимо поджечь. Причем не зажигалкой, которая была у меня в кармане, а именно спичками. Бытовая безалаберность меня и спасла. Пока я искал в бардаке коробок, дурь из головы помаленьку выветрилась, я попросту уснул калачиком на козеточке. Наутро в очередной раз зарекся от опасных экспериментов, но происшествие сыграло свою роль — я уже не боюсь красной смерти и ко всем родам умозрительного моего «аутодафе» стал почти равнодушен. Выполняю обычные правила, не оставляю открытого огня, проверяю газовые конфорки, но не зацикливаюсь на этом более, чем на правилах дорожного движения или электробезопасности.
Мой непытливый, балованный разум переменчив, танец мотылька, близорукая изнанка нахватанных знаний, с детства я любопытно подглядывал за собственным телом. Как поживают суставные сумки и носовой хрящ, красные на просвет, если поднести к свече, — пальцы.
Тело — каземат, тело — полонез, тело — штык-нож, тело — воск мадам Тюссо, тело, не приспособленное к танцу или поединку, но с блеском умеющее и то и другое, тело — московский рысак, тело — петербургское невысокое земноводное солнце. Исаакиевский купол лобной кости, прочность Дворцовой (берцовой) кости, неразводной мост остистого хребта.
Я так и не смог остановить свой выбор на чем-то одном, кульбиты перемен утомляли, но тело исправно служило мне, изнеженное на первый взгляд, но выносливое, как пони в шахте, черное нутро, ядрышко сердца, точно каучук, сопротивляется ударам и усладам в равной мере.
Время возмутительно небрежно щадит меня, я до сих пор сохранил младенческую нежность слишком тонкой кожи, тридцатью годами не побежденное мальчишество, овал лица, ушные петли, созвездия родинок, врожденных, вмонтированных в меня мушек. У меня тридцать восьмой размер ноги. У матушки был тридцать пятый, у деда со стороны матери и вовсе тридцать семь на тридцать восемь.
У нас очень старая усталая семья. Истощенная поколениями лжи, бегства, измен, молебнов, свадеб и адюльтеров кровь дает знать о себе. Я остался последним выползком в череде уничтоженных фотографий, фальшивых паспортов, перепутанных метрик, измененных имен, о которых я уже не узнаю ничего до смертного часа. Завидовал немецкому писателю Эриху Кестнеру: в своей повести "Когда я был маленьким" он пишет, что, для того чтобы узнать полную историю своей семьи с XIV века, он просто пошел в ратушу города Дрездена и подал запрос. А его предки не были графами-царь-папами и князьями. Обычные булочники.
С XIV века — поколения честных немецких булочников, которые платили налоги, были оштрафованы за выпеченные хлеба-недомерки, плодились и размножались, как заведено от века Добрым Богом.