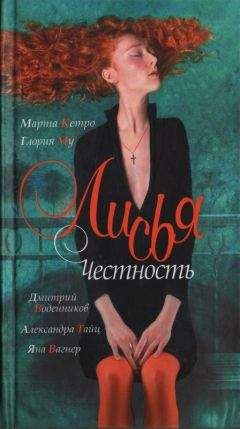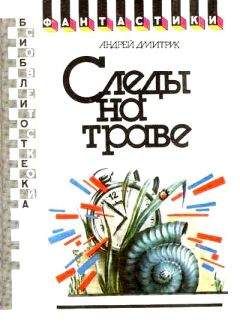— Чудесно, — ответила Оленька, — сходим в парк?
Она очень любила гулять, и не то чтобы у неё был темперамент таксы, просто нравилось ходить, а всякие такие штуки действительно лучше обсуждать в парке, иногда посреди разговора отбегая в сторону, чтобы посмотреть, кто это там интересный шуршит в кустах, мышка или птичка, ведь бывает и белочка.
— Пойдём. Только, это, Кате надо чего-то наврать, а то она орёт, когда мы с тобой вдвоём куда-нибудь собираемся.
— А Кате мы скажем, что заедем к Паше на работу.
И он ушел в другую комнату, чтобы ей позвонить, Оленька тоже быстро что-то прощебетала в свой маленький красный мобильник, и они убежали на улицу.
А через пару дней он говорит:
— Оль, тут странное что-то. Катя в тот раз не поверила и перезвонила твоему мужу. А он подтвердил, что мы у него были.
— Ну, так я его попросила нас прикрыть.
— То есть?
— То есть я пожаловалась, что у Кати не все дома, подозревает нас постоянно, поэтому пусть он ей…
— Но мне всегда казалось, что твой Паша нас тоже… того… подозревает.
— Не без этого. И как же иначе, если мы шляемся где-то целыми днями и возвращаемся подозрительно довольными. У этих людей на уме только одно, ты же знаешь.
— Ну и?
Оленька ответила терпеливо:
— Но после того, что я сказала про Катю, он не захотел выглядеть таким же комическим ревнивцем, как она. Теперь Катя дура, а он молодец и всё понимает.
— Слушай, я, кажется, понял, кто тут настоящий ЭмСи. Такой точный ход!
Чуть позже Клевер обронил, что Катя на него всерьёз обиделась.
— Понимаешь, я ей рассказал…
— Про нас?!
— Ну, не совсем. Сболтнул, какая ты умница и как ловко всё устроила в тот раз. В воспитательных целях, чтобы училась с мужчинами обращаться. А она надулась.
Оленька прикрыла глаза и немного про себя посчитала. Из него никогда не получится Мастер Церемоний. Но вслух произнесла другое:
— Давай немного погуляем.
С ним было хорошо ходить по полям, он носился рядом как жеребёнок. Мог безостановочно болтать, но никогда не мешал думать, если ей хотелось молчать.
«Катя-Катя, ты ни за что не поверишь, что мы просто пьём что-нибудь и смеёмся, а потом засыпаем, держась за руки, а около одиннадцати он подбирает свой роскошный лисий хвост и уезжает. Нет, у него нет хвоста ни в прямом, ни в переносном смысле, но явно есть что-то роскошное, что он приносит и распушает по всему дому, а потом никогда не забывает забрать. Оставляет у меня серые шерстинки, уносит рыжие, а больше мы не делаем ничего плохого. Да, дорогая Катя и дорогой Паша, верьте нам, верьте, мы просты, как грех, и ясны, как белые луны и жёлтые фонари, о которые вы бесцельно и недоуменно бьётесь ночь за ночью.
Мы — ваши злые дети, которых вы зачем-то завели, хотя и знали, знали с самого начала, как это будет. Неблагодарные дети, которые не хотят с вами играть, потому что им интересно с другими, такими же нахальными и порочными мальчишками и девчонками». «Где ты был?!»
«Что ты делала весь день?»
«С кем ты разговаривал по телефону?»
«Не ври!»
(Господи, но почему «не ври»… Да если мы перестанем врать, что у вас останется?)
«Я вообще-то не заставляла со мной связываться».
«Катя, я очень тебя люблю».
«Нет, я не хочу загнать тебя в могилу».
«Никого важнее тебя нет, не плачь, пожалуйста».
«Паш, я побежала?»
И мы снова бежим — сплетать хвосты и лазить по деревьям, иногда жалуясь: «А она мне и говорит… представляешь?» — «Да совсем с ума сошла, больные они, эти взрослые», но чаще играем в свои невинные блядские игры, в которых нет ничего плохого, кроме одного — вам с нами нельзя.
Иногда мы удираем из дома, садимся в поезд, прикинувшись взрослыми, прикрывшись паспортами, и едем туда, где никто не знает, чьи мы.
— Чьи вы, ребята?
— Мы — свои собственные!
В Африку никогда не сбегают дольше чем на пять дней.
«Кать, ну чего ты? Я обязательно вернусь, не к ужину, так к обеду».
Я точно знаю, зачем это нам, — чтобы возвращаться. Чтобы было к кому и было — зачем.
Но мне до смерти интересно — вам, вам- то это зачем? Зачем вам такие плохие стареющие, но невырастающие дети?
««Люблю» — это не ответ».
Через несколько часов Оленька разглядывала его отрешенное лицо — от дневного веселья не осталось следа, он курил, смотрел в темноту и, казалось, не думал ни о чём или, наоборот, был со своими мыслями так далеко, куда она не могла дотянуться. Равнодушное божество, правда, не её. И Оленька мучительно позавидовала этой нервной Кате — не потому, что та «почти замужем» за таким сокровищем. Она позавидовала женщине, которая живёт с тем, кого любит. Просыпается рядом и сначала поворачивается в его сторону, а уже потом открывает глаза и сразу видит — ещё не раздражённого, ещё не лгущего, ещё беззащитного, ещё — её: смятые ресницы, расслабленные губы, спутанные пряди, прилипшие к щеке. Дышит.
А равнодушное божество долго и покорно лежит, прикидываясь спящим. Чувствует на себе требовательный и горестный взгляд, и рот его наполняется злостью, потому что оно-то не может позволить себе жалкое разрушительное счастье — жить с тем, кого любишь, и быть нелюбимым.
Оленька не сомневалась: Клевер, как и она, просто не выдержал бы в таких условиях, какие годятся для Кати. Быть милосердно обманутым — для истинного лжеца гибель.
Оленька всегда, сколько себя помнила, не любила правды. Во-первых, за то, что её не существовало. Вроде вот она, чистейшая истина, а чуть изменить угол зрения или подождать немного — и что-то уже не то, подробности какие-то появляются, нюансы, которые делают картину не столь безупречной и очевидной. А если другого человека подозвать, так он и вовсе увидит на месте твоей незыблемой правоты неубедительную иллюзию.
А во-вторых, если допустить возможность каких-то постоянных, протяженных во времени и пространстве истин, Оленьке становилось неуютно. Так уж вышло, что всё, ею любимое, не выдерживало столкновения с реальностью, разрушалось в той же системе координат, что и мамина, например, или какая-нибудь «общечеловеческая» правда.
Пришлось пережить множество бедствий, прежде чем сумела понять: хочешь сохранить свою личность в целости, а близкого человека в покое и благополучии, — лги.
Не было такой школы, где могла бы учиться Оленька — хорошая девочка, отличница с прямой спиной и ясным взором, всеобщая любимица, а не пугливый зверёк с чуть косящими глазами. Не было, но её следовало придумать.
Не было дома, где осталась бы память о покойном отце — образцовом семьянине, даже не взглянувшем на другую женщину. В шестнадцать лет, уже после того, как он внезапно умер, Оленька нашла на полке позади книг пачку писем. «Милый, — писала какая-то женщина, — приходи, каждый день я жду тебя, и чего мне стоит не бегать на соседнюю улицу к твоим окнам». Оленька посмотрела по датам: эта связь продолжалась чуть ли не всю её, Олину, жизнь, письма шли и шли до востребования, а папа их забирал и, наверное, отвечал своим аккуратным интеллигентным почерком: «Люблю, приду, подожди» и не имел сил выбросить улики. Оленька тайком от мамы прочитала их все, вспоминая внезапные отъезды, срочные работы, неожиданные походы в магазин, длящиеся несколько часов. Будто нечаянно взглянула в зеркало и застала его врасплох, отражающим какую- то неведомую комнату. Оля тоже не смогла уничтожить письма, хотя твёрдо решила сберечь мамин покой.