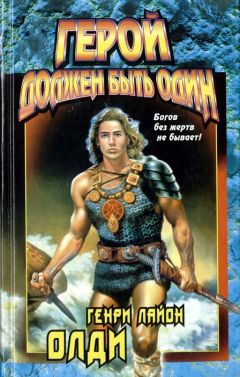Только потом девять пастухов ничком рухнули на безопасный левый берег, мало чем отличаясь от трупов на той стороне, а проснувшееся бессилие влепило каждому брату по обжигающей пощечине и хрипло расхохоталось, видя землекопов вместо воинов.
Не сговариваясь, близнецы бросились в разные стороны. Ификл схватил подаренный Ифитом-ойхаллийцем лук и три стрелы, случайно оказавшиеся под рукой, и умчался вверх по течению, надеясь привлечь внимание фиванских обозников и навести переправу. Алкид же понесся вниз, высматривая хоть что-то – чудо, подарок судьбы, что угодно, лишь бы позволило перебраться через Кефис.
Вот тогда он и захотел стать богом.
Дождь незадолго перед этим прекратился. Богиня облаков Нефела погнала прочь своих небесных коров, в разрывах замелькал солнечный венец Гелиоса, и Алкид сперва не поверил глазам, увидев впереди незнакомого воина, сидевшего на краю боевой колесницы, запряженной парой вороных жеребцов.
Серебряные львиные головы на поножах и рукояти меча воина насмешливо скалились, словно напоминая Алкиду о недавних подвигах на Кифероне. Даже не видя скрытого под глухим конегривым шлемом лица незнакомца, юноша был почему-то уверен, что тот улыбается.
– Радуйся, брат! – неожиданно звонко прозвучал из-под шлема ясный голос воина.
– Кто ты? – выдохнул Алкид, шаря глазами в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием, и не сильно доверяя странному чистюле-«брату».
– Я Арей, сын Зевса и Геры, – ответ был простым и недвусмысленным. – Посмотри на себя и на меня, и ты сразу поймешь, что мы братья.
Ни тени насмешки не крылось в словах воина, как если бы он считал свое сходство с обессиленным, покрытым чешуйчатой коростой Алкидом чем-то само собой разумеющимся.
– Я бог войны Арей-Эниалий, – повторил воин, указав рукой в чеканном наруче за реку, где зубами грызли друг друга Фивы и Орхомен. – А это мои владения. Нравится? Хочешь туда?
– Хочу! А ты… ты можешь?!
Хохот воина заставил дрогнуть ребристое забрало его шлема.
– Могу ли я? Старый обожравшийся Кефис – не преграда для моих коней! Дело не в том, смогу ли я – дело в том, захочешь ли ты?!
– Захочу – что?
– Захочешь ли ты взойти возничим на колесницу Арея-Неистового?! Подумай, мальчик!
Все в Алкиде кричало «да!», но, загоняя рвущиеся наружу слова обратно в глотку, по воздуху едва уловимо скользнул щекочущий ноздри запах… запах плесени.
– Возничим? На твою колесницу? – недоверчиво переспросил Алкид, стараясь не смотреть через Кефис, откуда взывала к нему жизнь и смерть сородичей. Арей-Эниалий был не таким, как Гермий, Пан или веселый Дионис; и уж совсем иным, чем Хирон – но понять, в чем же кроется различие, не удавалось.
Арей расценил его колебания, как юношескую неуверенность.
– Да! Я сразу понял, что ты такой же, как я – еще там, на Кифероне, когда ты, мальчик, с чужим мечом в руке плясал среди шестерых минийцев, подобно богу продлевая экстаз наслаждения! Алкид, брат и возничий Арея-Эниалия – тебе не придется ждать, пока дряхлый скряга Зевс соблаговолит или не соблаговолит пожаловать тебя бессмертием! Герой, ты станешь богом сам, вырвав желаемое у трусливой и подлой Семьи! Ты промчишься рядом со мной через сотню, тысячу битв, солдаты станут погружать копье в печень врага, взывая к тебе, девушки будут зачинать мальчиков, взывая к тебе; вспомнив меня, седой ветеран и впервые надевший панцирь юнец не преминут вспомнить и тебя… и наконец закончится мое проклятое одиночество! Сейчас ты рвешься за реку, как усталый путник стремится домой – соглашайся, Алкид, и война навсегда станет твоим домом, любимым и желанным… богам приносят жертвы, мальчик – и это великое, грандиозное жертвоприношение, которое смертные никогда не устанут приносить мне, станет и твоим! Будь возничим Арея!..
Арей резко замолчал.
Он ожидал чего угодно, но только не выражения скорби на осунувшемся и сразу постаревшем лице Алкида – словно последние слова Эниалия были последней чашей цикуты, подносимой преступнику, осужденному на казнь.
– Мне жаль тебя. Ты безумен, как и я, – измученный и грязный юноша с неподдельным сочувствием смотрел на воина в сверкающих доспехах, и Арею на миг показалось, что забрало его шлема стало прозрачным. – Бедный мой… брат – прости, но мне нужно искать другую переправу.
– Глупец! – Арей вскочил, заставив вороных жеребцов захрапеть. – Щенок! Ты не хочешь быть моим возничим? Хорошо, ты будешь моим рабом! Ведь ты же рожден героем! – копошась в грязи, подобной той, в которую торопишься погрузиться, ты вспомнишь обо мне и о том, от чего отказался, когда я со смехом промчусь мимо! Иди, герой, живи, воюй, грызи – во славу Арея!
– Если тот, в кого вы превращали меня с детства, называется «герой» – поверь, я не хочу быть им. Если не воевать – значит, не быть героем; если не радоваться победе – значит, не быть твоим рабом, то я…
– Ах, так! – Арей уже стоял на колеснице, сжимая поводья. – Ну что ж, я не стану пользоваться детским недомыслием. Стой здесь, герой, не желающий быть ни героем, ни богом! Стой здесь и смотри за реку; и если ты вдруг передумаешь – дай мне знак! Ах я дурак… не зря Семья называет вас Мусорщиками! Смотри и думай!
Внезапно усилившийся ветер перешерстил гриву Ареева шлема, и бог погнал колесницу через Кефис, туда, где в болоте копошились его жрецы и жертвы.
Алкид смотрел ему вслед, не замечая бегущего к брату Ификла, так и не сумевшего обнаружить на том берегу хоть кого-нибудь из фиванских обозников.
– Мусорщик? – в горле словно застряла глиняная корка, и все не удавалось заставить дрожащие руки забыть о валунах, бревнах и хлюпающей грязи. – Ну что ж, это правда…
9
Сил у Амфитриона не оставалось – только опыт и годы, враждующие между собой; и хотел бы он знать, что в конце концов перевесит. Отдавать приказы было некогда и некому, все резервы, включая самого лавагета, утонули в рычащей мешанине боя, и можно было делать лишь одно – тупо отражать и наносить удары, доверившись телу и стараясь не думать. Чтобы выжить. Чтобы не упасть в вязкую трясину, подняться из которой уже не будет суждено. Чтобы отправить по протоптанной дороге в Эреб еще одного орхоменца. Вот этого. И вот этого. И еще вон того, с разорванным ртом. И еще…
Амфитрион втиснулся в узкое пространство между двумя столкнувшимися колесницами, наглухо перекрылся щитом и лишь изредка коротко и зло бил зажатым в правой руке копьем, чутьем старого воина ловя единственно возможный миг для змеиного укуса листовидного жала.
Когда вокруг становилось посвободнее, он успевал выудить из грязи несколько дротиков – и некоторое время не подпускал к себе минийцев, но дротики скоро кончались, и все начиналось снова.