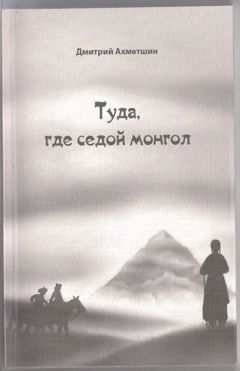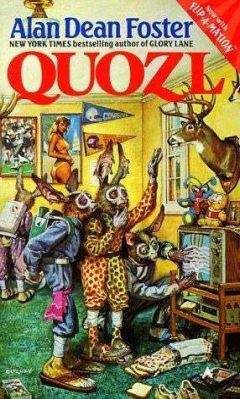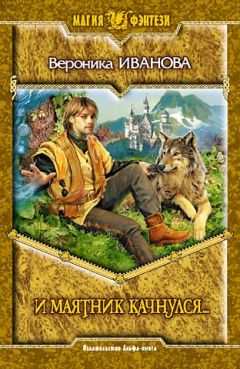Ознакомительная версия.
Под одобрительное ворчание седого монгола этот же голос взвился одновременно конским ржанием и торжествующим лёбединым криком.
— Смельчак! Вы…оди сюда, на свет. Чар, которые на тебя наложили, больше нет, и ты…ожешь не опасаться за здоровье своего слепого тушкана. Твоя кровь её убивала, теперь же будет всё наоборот — её кровь излечит твою хворь. Выползай, кукушкин птенец, не прячься. Я хочу! Увидеть! Твоё! Лицо!
Голос обернулся ворохом искр, и тьма в углу шатра её памяти рассеялась. На миг Керме показалось, что она поняла различие между светом и тьмой, поняла даже, что такое цвет и какой цвет у огня. Поняла, как выглядит пламя, та кусачая змея, зубов которой её руки в своё время попробовали немало.
Всё встало на свои места. Двухголовый труп лошади обернулся скомканным походным шатром без опор, и все непонятные предметы вдруг обрели форму и названия. В ведении Керме появились: седло, пропитавшееся запахом лошадиного пота, кривой меч, маленькая дудочка, в звуки которой так приятно вплетать шаги твоего коня во время путешествия. Золотое стремя. Запах гниющей плоти растворился где-то в вышине, под звёздным светом, назойливое мушиное жужжание стало скрипом цикад, под который любая девушка может мечтать, тихо зарывшись в одеяла, до самой полуночи, до первых брызг рассвета — для Керме они всегда выражались капельками росы. У полога ли она спала, или ближе к кострищу, в походном ли шатре или в постоянном; эти капельки неизменно находили её щёку и сдабривали предутреннюю дрёму, как засушенные травы сдабривают вкус мяса.
— Это всё — вещи твоего сына. Не знаю, понадобятся ли они ему после рождения — это ты спросишь у него сама, — сказал длинношеий.
Керме вновь чувствовала биение маленького сердечка. Чувствовала, как внутри вновь происходит обмен кровью, и как боль сходит на нет. Отголоски её ещё прячутся меж рёбрами, но из этих гадючьих яиц уже не вылупятся гадюки. Здесь, в шатре давно почившего и похороненного где-то за рекой кама, она пошевелилась на коленях человека, но он молча придержал её голову — мол, не торопись вставать.
Там, в углу, на шкурах, которые составляли стенки походного шатра, кто-то сидел. Керме впервые за свою жизнь горько пожалела, что не может видеть. Она хотела бросится к малому, обнять его, но голова покоилась на руках седого монгола, и не было сил встать с этой подушки.
— Всему своё время, — шепнул ей седой монгол, не то в одном мире, не то в другом.
— Как он выглядит? — вопрошала Керме. — Расскажите мне, как он выглядит?
Длинношеий хмыкнул.
— Он…е выглядит. У…его нет лица. Пока нет.
А потом обратился к сидящему в углу:
— Ты можешь быть доволен. Твоя просьба исполнена.
— Это не так важно.
Голос у маленького, как начисто вычищенный котёл, в котором закипают, словно прозрачная вода из родника, эмоции. Вроде бы и детский, а вроде и нет. Звонкий, как капель, там и намёка не было на хрипотцу взрослого.
— А что…еперь важно? — насмешливо спросил длинношеий.
— То, что я вижу Его. Я Его вижу, и не могу насмотреться.
Седой монгол подал голос. Он сказал мягко:
— Смотри лучше на моего слугу. У него птичий клюв и лошадиные копыта, и крылья, а в перьях прячутся руки. Он диковина, какой ты никогда не найдёшь в мире. Я же просто странник по бесконечным землям, и лицо у меня самое обычное.
Маленький молчал, и седоволосый продолжил:
— Ты можешь обращаться ко мне, когда только захочешь. Ты, и твой народ. И если ваши просьбы будут достаточно истовы и чисты, я сделаю всё, чтобы они исполнились. Запомни это — нарисуй где-нибудь, запиши… женщина, у тебя здесь что, нет бумаги? («У них есть сказания», — подсказал длинношеий. — «Эти люди передают всё самое важное в стихах. Это немного неудобно, но зато хорошее искусство. Иногда так поют — заслушаешься!») — и когда родишься, расскажи всем. Когда захочешь! Я обещаю, что больше не подошлю к вам своих слуг.
— Отец, — с укором сказал длинношеий.
— Не бойся, ты без работы не останешься. Многое нужно делать. Являться во снах сумасшедшим провидцам, которые желают странного, таскать на землю новые души… узнать, в конце концов, что за Ветер обрюхатил нашего слепого тушкана…
— Я запомню, — услышала Керме голос Малого. Она отчаянно пыталась запомнить, какой же у него голос, как же он дышит, чтобы пронести эти воспоминания как можно дольше — хоть до самого рождения. Но голос у него был как степной дождь в начале весны — растрескавшаяся земля впитывала его весь, без остатка. А дыхания будто и не было вовсе.
— Насчёт Ветра, — вставил длинношеий. — Я уже слетал и узнал. Это не тот Ветер. Это другой, земной ветер. Не тот, что гоняет по океану белые барашки, а тот, что гоняет по степи белых барашков. Но наш, в смысле твой, верный слуга тоже приложил руку к судьбе этой женщины.
Голос седого погрубел:
— Думаю, вы слишком уж вмешиваетесь в судьбы людей. Если это так интересно — а может, спуститесь и поживёте вместо них одно поколение, а они будут бросаться вами, как игральными костями, и наблюдать, сколько же выпало? А? Каково?
Длинношеий сказал поспешно:
— Ветер защищал нашего тушкана. Сказал, что она ему как сестрёнка, что с самого рождения был ей подмогой и товарищем по играм, а она… он сказал, эта девочка многому его научила. Это и есть самое удивительное. Громокрылый, конечно, проказник и склонен к перепадам настроения, но совсем не сентиментален. Но добиться от него ещё каких-то разъяснений я не смог.
Седоволосый вздохнул.
— Коли так, ладно. Чем больше я брожу по этому болоту, тем сильнее вязнут ноги. Связала, называется, бабка пряжу… вот смотри! Даже разговариваю их поговорками. Пошли отсюда скорее. Вы двое — хорошо бы вам попрощаться. Только не очень долго, всё равно скоро увидитесь. Да, кстати, вряд ли вы теперь сможете так запросто разговаривать через кровь. Ты отныне станешь обычным семечком, упавшим в благодатную землю, а ты — обычной матерью, пусть и слегка ничего не видящей.
Керме устремила всё своё существо к сидящему в уголке шатра, и тот потянулся навстречу.
— Я буду ждать встречи с тобой, — пришло с током крови.
«Я тоже», — хотела сказать Керме, но слёзы сжали её в своих душных объятиях.
Он исчез вместе с шатром в её голове, растворился в водовороте образов, в мешанине запахов, звуков и ощущений, к которым примешивались редкие вспышки света. Осталась только хвоя, что норовила впиться в тело, да запах навоза. Да шёпот листьев, вновь и вновь переживающих события минувшего лета, звон не уснувшей ещё мошкары и прочие лесные звуки, которые просыпаются, когда рядом никто не суетится и не разводит бурные дела, ломая и подминая под себя хрупкое дыхание степи или горной и лесной местности, как это умеют только люди.
Ознакомительная версия.