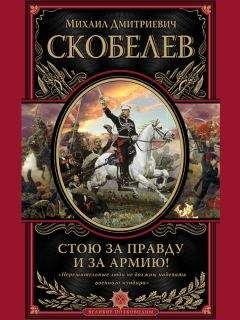Когда же начал показываться в городе день, но жители оного все еще тогда спали, пришед множество воинов, взяли Аскалона из темницы и повели во дворец к государю. И когда ввели его в залу, то увидел он великое собрание жрецов, министров и прочего господства, которые осматривали его все весьма жадными глазами. Потом когда вышел в сие собрание государь, то приказано было спрашивать у Аскалона, какого он роду, где его отечество, с каким намерением приехал в их город, для чего путешествовал на дельфине и какую имел к тому причину?
Когда приступил к нему с сими вопросами переводчик, ибо лунатики говорили не славянским языком, тогда Аскалон, не изготовясь совсем к тому и досадуя весьма много на превращение своей судьбины, отвечал ему о себе такую нелепость, что все собрание или должны были отпращиться его ответов, или смеяться оным, ежели бы они действительно знали помешательство его разума; и как услышал государь, что истины от Аскалона узнать ему никоим образом не можно, то определил так, чтоб бросить его в темницу и там уморить голодом. Сие объявил ему переводчик.
Итак, приказ государев немедленно был исполнен. Отвели Аскалона в то же смертоносное здание, заключили в него навеки и завалили двери великим камнем.
Сколь бы человек зол ни был и с каким бы хотением ни определял себя сносить всякие напасти великодушно, однако природа во многом бывает не согласна с нашими намерениями: всякая скорбь касается нашего сердца, а сия часть внутренности нашей неудобна многим сносить болезни. Аскалон еще в первый раз от рождения своего узнал прямое несчастие, и хотя поневоле, однако выведывал всю его силу и власть над человеческим поколением. Всякого рода печали, горесть и отчаяние вселилися в его сердце, великая тоска мучила его несказанно, и он столь отчаянно плакал, что почувствовал от того великую боль в голове и для того повалился без чувства на землю.
Сон или другое какое-нибудь забвение усыпили его члены, и находился он в сем жестоком беспамятстве до половины наступившей ночи. Потом некоторый приятный шум привел его в память, и когда получил он после того забвения все свои чувства, то услышал голос арфы, который весьма глухо слышался в его темнице. Сперва подумал Аскалон, что сие ему чудится и что в самой вещи не может быть сие правда; а как не переставало слышаться ему сие приятное согласие музыки, встал он и хотел сыскать то место, откуда происходит тот голос.
Подошед к одной стене, ощупал на оной малую скважину, по чему узнал, что происходил он из оной; и когда начал больше вслушиваться, то мог разобрать, что пел человек следующие стихи с великими вздохами и сердечным терзанием:
Всякий час вздыхает странник,
Заключен сидя в неволе;
Но стократ страдает боле,
Кто в отечестве изгнанник.
Отнята его свобода,
Пал родительский престол;
Но стенание народа
Всех несносный в свете зол.
Ты счастлив, Олан, не ложно,
Что не слышишь стону их;
Но сносити мне не можно,
Он всегда в ушах моих;
А прогневанные боги
Отвратили вовсе слух;
С тем послали казни строги,
Чтоб извлечь с мученьем дух.
Как только окончал невидимый сии стихи, то и умолк; а Аскалон, выслушав их, пришел в великое сомнение; он думал, что прибыл в отечество Алимово, в чем и не обманулся. И так положил, чтоб в наступивший день начать разбирать стену, чтоб сделать проход к тому незнакомому человеку, о котором воображал прежде, что он добродетельный гражданин и не последнего рода. Слабый свет, проходящий в весьма малое окно его темницы, весьма много способствовал к произведению его работы, и он столь сделался в сем случае силен и искусен, что в один день разломал крепкой той стены почти в меру человеческого роста.
Датиной, так назывался сидящий в другой темнице невольник, с начала преступления Аскалонова к своему намерению слышал происхождение оного и ожидал, что наконец выйдет из сего ему привидения: ибо он так думал потому, что, находяся тут двадцать лет, не видал ни образа, ни действия человеческого, выключая только то, что всякий день слушал голос начальника темничного, который спрашивал его по утрам, жив ли он, и опускал с потолка пищу. А как появился в темнице его человек, то он несказанно испужался и хотел в скором времени увериться, что человек то или диявол.
Аскалон поневоле принужден был иметь тогда смиренные мысли, для того что смерть усмиряет всякие свирепости в природе, и великий страх приступать к оной делает нередко злого варвара тихим и снисходительным человеком. Он просил извинения у Датиноя, что осмелился искать своего спасения таким образом и, будучи заключен в темницу, чтоб умереть там голодною смертию, просит он сего невольника принять его в сообщение и уделять той пищи, которую, без сомнения, посылают ему варвары.
Датиной был тому чрезмерно рад, что и в самой злой неволе может делать помощь подобному себе невольнику; того ради обнадежил Аскалона, что прошение его исполнено будет с охотою и что весьма много радуется несчастный Датиной, что имеет у себя собеседника, который, без сомнения, разделять с ним будет жестокую неволю, несносную скуку, неизмеримую печаль и тяжкое сожаление о потерянном благополучии.
В такой несчастной жизни, в какой находился тогда Датиной, старается человек поминутно искать какого-нибудь увеселения для препровождения столь скучного времени, и хотя всякая отрада от него отдалена, однако надежда, которая до самой смерти нас не оставляет, питает мысли его беспрестанно достижением какого-нибудь счастия, или хотя тени оного, которая ставится в случае таком за велико.
Будучи исполнен сими мыслями, предприял Датиной уведомиться от Аскалона, каким образом тот, будучи чужестранец, попался в сию жестокую неволю и для какой причины заключен в столь тяжкие оковы. Аскалон сказал ему о себе в коротких словах, что он славянин и воин простого рода, отечества своего не знает и странствует по всему свету.
— Сколько тебе лет? — спросил его Датиной.
— Двадцать два, — ответствовал ему Аскалон.
По сем ответе затрепетал Датиной и думал, что он находится вместе с племянником своим Алимом, который точь-в-точь должен иметь был такие лета.
— Милосердые, но прогневанные беззакониями нашими боги, неужель в средине жестокого отчаяния народного посылаете вы мне такую радость, которая затмит все собственные мои несчастия! Как твое имя? — продолжал он спрашивать у пришедшего невольника и ожидал на сие ответа с великою жадностию. Но как услышал, что он называется не так, то и переменил свою радость на прежнее отчаяние.