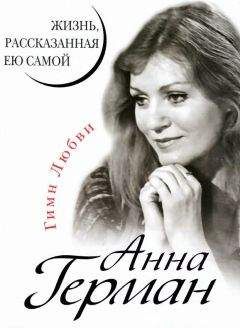Анаиэль захрипел, оседая на колени и громко, истерзанно и тяжело кашлял, сплевывая кровь, скатывающуюся с губ. Духовное давление, что просачивалось в каждый камень и каждую песчинку в этом месте, поглощало его, подавляло волю к борьбе. Перед глазами все расплывалось, как в туманной жаркой дымке, прикосновение же песка к костяшкам пальцев походило на кипяток, и боль заставляла его не покидать сознание и оставаться в разуме. Ладони кровоточили, и кожа горела, а его шрам, пересекающий искривленной полосой заветные линии судьбы, сиял серебром, и он вспоминал слова предсказателя. Помнил, как смрад дыхания прокаженного старика, окутал его юное и чистое лицо, как чистых волос кедра коснулась истерзанная седина бледной луны, как сияние глаз морской волны и далекого неба воссоединилась со стеклянной гладью темных болот. Анаиэль помнил, как на его плечи легла костяная рука старца, кожа человека походила на крыло копченого фазана, его же кожу каждый вечер обливали розовыми маслами и душистой теплой водой, от которой исходил пар, за которым не было видно даже хрустальных фужеров с кремами, и оттенка полупрозрачной ткани хитона прислужницы, что заплетала его волосы. Но до того была тонка кожа толкователя, что через бронзовый оттенок, он мог разглядеть белизну костей. Он помнил, какие слова были произнесены сквозь гнилые желтые зубы, пророческие мгновения будущего, погрузившие его в отчаяние такой безмерной силы, что он едва мог дышать.
— Кто-то мог еще остаться в живых, — с трудом проговорил Анаиэль, сжимая ладонь в кулак, и проводя трепещущими костяшками пальцев вдоль горящих песков, поднимаясь с колен и опираясь на могучее подставленное плечо своего соратника, ощущая на своих собственных плечах всю тяжесть мироздания. Грозы падали на его спину, и черные шакалы вгрызались в позвонки, и душное марево сдавливало горло. Слабость пронзала каждый нерв, и каждый глоток воздуха походил на огненное возрождение, и пламя прожигало горло, спускаясь лавой к вскипающим легким. Дыхание оставляло его, а ветры потерялись в грозовых веяниях бури, в сплетениях черных мантий служителей ночи. Он не видел их образы, что были точно переменчивые облака и туманные узоры при первых отблесках рассвета, но отчетливо мог слышать их истерзанные вопли, ощущать их присутствие. Их костяные длинные щупальца обнимали в объятиях, их безликие бежево-мраморные лики без глазниц медленно нагибались к его подбородку, чтобы оскалиться у самых губ, и он мог слышать зловонный гной кровоточащих ртов. И затем пасти раздвигались, обнажались широкие резцы зубов в улыбке ни коварства и удовольствия, а той, что появлялась на лицах людей, когда они испытывали власть, что была в их руках, восторгаясь подчинением и унижением других. Истинное унижение другого привносило в нечеловеческие сердца приток истинного наслаждения.
— Я могу еще кого-то спасти, — шептал мужчина, самозабвенно глядя на город, из сердцевины которого, будто из горящего котла, поднимался черный дым, усеивающий небо, и лишь статуи богинь, сверкающие богатством злата, оставались единственным источником света. Влажные от пота темно-коричневые волосы с проблесками осиновой смолы, прилипали к пламенеющим в багрянце щекам, отчего черты лица мужчины стали резче и грубее, а рука, что была заклеймена шрамом отречения от судьбы, тянулась в направлении горящих, обваливающихся стен. И Таор невольно сильнее стиснул предплечья своего господина, в надежде хоть как-то удержать его от безумной погибели, что несли стены погрязшего в сумерках града, от чувств, что переполняли гневом и раскаянием разум молодого человека.
Так было с самого начала их встречи, когда мальчик из самой знатной дворянской семьи поднял голыми руками его обнаженный меч, схватившись за лезвие на арене, где его приносили в жертву на потеху высоким чинам и благородным выходцам. Но лишь ребенок протянул ему руку помощи, не боясь омрачить свое имя, не задумываясь о последствиях скверны, что могли пасть на весь род. Таор хорошо помнил тот день, окаймленный алым закатом, что растекался карминовой рекою по золоченым крышам, очерчивал янтарные гривы статуй львов, что выстраивались в бесконечных аллеях, по кустарникам жасмина, застывая каплей меда в блаженно-сладких бутонах, и тепло вонзалась в тонкие прожилки белесых лепестков. Анаиэль де Иссои ступил на поле брани и смерти перед взглядами тысячи сановников и служителей храмов, прося о помиловании смертника у самого Императора. Таор отчетливо слышал звук шагов по скрежещущей щебенке, когда кожаные сандалии встали у красного ложа, как мягкие ладони без единой ссадины и грубой мозоли, опустились на грязную землю, улитою кровью, и как потемнела атласная ткань белых штанин, когда он опустился и склонил голову перед Императором, прося его о дозволении молвить слово о своем желании. Сражения и показательные бои всегда были частью повседневной жизни дворянских семей. На военные турниры, что проводились среди лучших воинов золотой, приходили и зажиточные горожане, съезжались купцы с дальних окраин, предводители наемников со всех уголков мира. И даже бритты наслаждались отменным искусством боев молодых и искусных солдат, выкупая за огромные суммы самых одичалых из выживших, чтобы бросить тех в глубокие кратеры для добычи железной руды. Но любование доставляла пролитая кровь, и ярость, сквозившая в каждом глотке воздуха того, кто пытался выжить. Обсидиановый меч Таора раскололся в его пальцах, разлетелся в осколках блистающей черной пыли, что светились медовым цветом восхода и аметистом тихой речной глади на закате дня. Едва заметная человеческому зрению трещина на лезвии клинка, позволила отполированному широкому топору, разбить оружие. Таор сражался отменно, и победил троих, что были вдвое крупнее и старше его, опытнее. Мужчины, павшие под громящим ударом меча разъяренного волка, были закалены в жесточайших и страшнейших боях. Они выстояли против британских убийц, носящих звериные маски; справились с телами ядовитых ящеров, увитые броней из шипов, черными призраками, кормившимися злобой человеческих душ, но не смогли устоять против разящего молнией удара мальчика. Уже тогда тело его испещряли многочисленные шрамы, углубления в плоти, оставшиеся после огнестрельных ранений. Все происходило столь быстро на поле сраженья, он уже готовил себя ко мраку, ко встрече с пустотой и вселенским серебряном духом, о которых слагали легенды дети пекарей и кузнецов, дворцовой челяди, рассказывали старухи с улицы вздохов, где жили ведьмы и распутницы, знахарки и лекари, духовные наставники и педагоги. Он видел, как раскраивается черепушка других, как вываливаются глазные яблоки, и плещет водопадом темная и вязкая кровь, как выступают кости из сломанных рук, и растекается содержимое голов на горячие пески, становясь кормом для стервятников и оголодавших львов. В его руках осталась лишь рукоять с изысканной росписью, что врезалась в кожу до крови, столь крепко удерживал он темный эфес в ладонях с вырезанными человеческими фигурами. Затхлый воздух и непереносимая жара, сковывали мышцы, липкий пот вонзался в кожу невидимой броней и неподъемными доспехами. Он был повержен и склонен наземь. Увесистый осколок сломанного меча, со свистом отлетел на другой конец бойцовского поля, вонзившись с глухим ударом в желтый песок перед ногами застывшей дворцовой стражи.