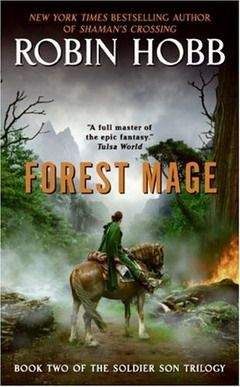Наблюдателей было не так много. Не таким уж значительным был этот город — он не заслужил даже точки на карте. Жители рассчитывали на то, что это защитит их от набегов. Они получали хорошую шерсть и пряли добротную пряжу, это верно. Вылавливали и коптили лосося, который водился в реке, а яблоки здесь были маленькими, но сладкими, и из них получалось доброе вино. К западу от города была колония съедобных моллюсков. Вот и все богатства Силбея — не так уж много, но достаточно для того, чтобы люди здесь ценили свою жизнь. Во всяком случае, уж конечно, город не стоил того, чтобы пройти по нему с огнем и мечом. Какой человек в здравом уме сочтет бочку яблочного вина или копченого лосося достойными пиратского набега?
Но это были красные корабли, и они приходили не за товарами и не за деньгами. Им не нужны были ни племенные стада, ни даже красивые женщины, которых можно взять в жены, ни юноши, которых можно посадить за весла на галерах. Густошерстные овцы будут изувечены и убиты, копченый лосось раздавлен грязными сапогами, склады шерсти сожжены, винные погреба разгромлены. Они возьмут заложников, да, но только для того, чтобы «перековать» их. Магия «перековывания» лишит несчастных всех эмоций и оставит им только мысли о еде. Пираты не станут удерживать их у себя, а бросят здесь, чтобы их страшная немощь научила тех, кто любил их и называл родными. Лишенные всех человеческих чувств, «перекованные» будут опустошать родной город безжалостно, как росомахи. Это превращение «перекованных» в охотников за своими собратьями было самым жестоким орудием островитян. Я уже знал об этом. Видел последствия других набегов. Наблюдал, как накатывает смертельная волна, чтобы поглотить маленький город. Островные пираты спрыгивали с корабля на пристань и наводняли улицы. Они безмолвно шли по городу, разделившись на группы по двое или по трое, смертоносные, как растворяющийся в вине яд. Те, что остались на пристани, обыскивали корабли, привязанные к причалу. В основном это были маленькие открытые плоскодонки, но были еще и два рыболовных судна и одно торговое. Их команды постигла быстрая смерть. Неистовое сопротивление моряков было столь же тщетным, сколь истошное кудахтанье домашней птицы, когда ласка залезает в курятник. Я слышал их отчаянные голоса, полные муки. Плотный туман жадно глотал их крики. От этого смертельные вопли людей становились только стонами морских птиц. Потом корабли были пренебрежительно сожжены — никто даже не подумал забрать их в качестве трофея. Эти пираты никогда не брали настоящей добычи. Может быть, горсть монет, если их легко было найти, или ожерелье с тела той, которую они изнасиловали и убили, — но не более того.
Я не мог ничего сделать — только смотрел. Я тяжело закашлялся, потом обрел дыхание и заговорил…
— Если бы только я мог понять их, — сказал я шуту, — если бы только я знал, чего они хотят! Нет никакого смысла в том, что делают пираты красных кораблей. Как можем мы сражаться с ними, если не знаем причины, по которой они воюют?
— Они — часть безумия того, кто управляет ими. Их можно понять, только разделив их безумие. Лично у меня нет такого желания. Понять их — не значит остановить.
Нет, мне не хотелось смотреть на город. Я видел этот кошмар слишком часто. Но только бессердечный человек смог бы отмахнуться от него, как от плохого кукольного представления. Самое малое, что я мог сделать для своего народа, это смотреть, как люди умирают. И в то же время это было самое большое, что я мог сделать для него. Я был больным, искалеченным, глубоко старым человеком. Ничего большего от меня нельзя было и ожидать. Так что я лишь наблюдал. Я смотрел, как маленький город просыпается от сладкого сна только для того, чтобы почувствовать грубую руку на горле или на груди, чтобы увидеть нож, занесенный над колыбелью, или услышать отчаянный крик разбуженного ребенка. Огни замерцали и начали разгораться повсюду. В одних местах зажигались свечи при крике соседа, в других факелами пылали подожженные дома. Хотя красные корабли терроризировали Шесть Герцогств уже больше года, для этих людей кошмар стал реальностью только сегодня ночью. Они думали, что готовы. Они слышали ужасные истории и решили, что никогда не допустят подобного. И все-таки здания горели и крики поднимались к ночному небу, словно рожденные дымом.
— Говори, шут, — приказал я хрипло, — вспоминай будущее для меня. Что они говорят о Силбее? О зимнем набеге на Силбей?
Он прерывисто вздохнул.
— Это непонятно, неясно, — он медлил, — все колеблется, все меняется. Слишком многое в движении, ваше величество. Будущее разливается там во всех направлениях.
— Рассказывай все, что видишь.
— Они сложили песню об этом городе, — глухо проговорил шут. Он все еще сжимал мое плечо. Даже сквозь ночную рубашку я чувствовал, какими холодными были его длинные сильные пальцы. Дрожь пробежала по его телу, и я почувствовал, как трудно ему стоять возле меня. — Когда ее поют в таверне и стучат по столу кружками с элем, все это кажется не таким ужасным. Можно вообразить, какое храброе сопротивление оказывали эти люди, — они сражались, а не сдавались. Ни один человек не был взят живым и «перекован», ни один, — шут замолчал. Истерическая нота в его голосе приглушалась легкостью, которую он старался придать словам. — Конечно, когда вы пьете и поете, вы не видите крови и не чувствуете запаха горящей плоти. И не слышите крика. Но это понятно. А вы пытались когда-нибудь найти рифму к словам «разорванный ребенок»? Кто-то когда-то попробовал «дарованный котенок», но эти стихи все равно не очень-то складные. — Ничего веселого не было в его шутке. Эти горькие насмешки не могли обмануть ни его, ни меня. Он снова замолчал. Мой пленник был обречен разделять со мной мое горькое знание.
Я молча наблюдал. Никакие стихи не могут выразить страдания матери, запихивающей в рот ребенка отравленную конфетку, чтобы уберечь его от пиратов. Никто не может рассказать о криках детей, которые корчатся в предсмертных судорогах от жестокого яда, или о мучениях женщин, которых безжалостно насилуют. Ни стихи, ни мелодия не могут вынести тяжести рассказа о лучниках, самые верные стрелы которых убивали захваченных в плен родственников прежде, чем их успевали утащить на корабли. Я заглянул внутрь горящего дома. Сквозь языки пламени я видел десятилетнего мальчика, который подставил свое горло под удар материнскому ножу. Перед тем задушил младшую сестренку, потому что пришли красные корабли и ни один любящий брат не отдал бы ее ни пиратам, ни прожорливому пламени. Я видел глаза матери, когда она, прижав к себе тела детей, бросилась в огонь. Такие вещи лучше не запоминать. Но я не мог избавиться от этого знания. Это был мой долг — знать и помнить.
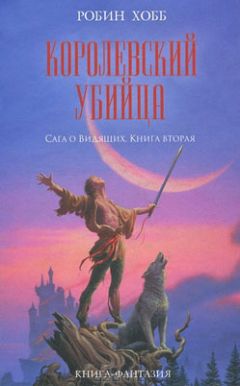
![Робин Хобб - Королевский убийца [издание 2010 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49368/49368.jpg)
![Робин Хобб - Королевский убийца [издание 2010 г.]](https://cdn.my-library.info/books/47826/47826.jpg)