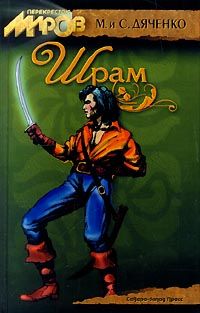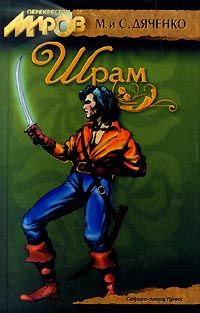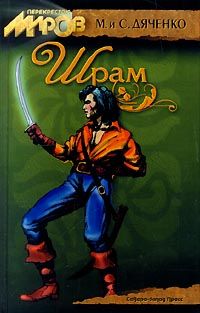Что-то ударилось о стекло снаружи — Солль, напряжённый как струна, судорожно вздрогнул. Тория, не глядя, положила руку ему на плечо.
Губы декана изогнулись, будто от усилия. Огоньки свечей мучительно вытянулись — и опали, приобретя нормальную форму. Постояв секунду неподвижно, декан прошептал едва слышно:
— Подойдите.
Воды в блюде будто не бывало никогда — там, где следовало находиться её поверхности, лежало зеркало, белое и яркое, как ртуть. Зеркало Вод, понял, замирая, Эгерт.
— Почему же ничего не видно? — шёпотом спросила Тория.
Эгерт едва ли не возмутился — для него достаточным чудом казалось само зеркало. Однако в ту же секунду белая муть заколебалась, потемнела, и вот это уже не муть, а ночь, ветер, такой же, как за окном, мотающиеся ветки голых деревьев, огонёк… Один, второй, третий… Факелы. Не пытаясь расшифровать изображение, Эгерт дивился тому только, что здесь, в маленьком круглом зеркале, отражается неведомое, невидимое, происходящее кто знает где; заворожённый магией и своей причастностью к тайне, он опомнился только от звонкого выкрика Тории:
— Лаш!
Одно короткое слово протрезвило Эгерта, как пощёчина. В зеркале бродили тёмные фигуры, и в даже скудном свете малочисленных факелов можно было различить капюшоны — накинутые на глаза, а кое у кого отброшенные на плечи; целое сонмище воинов Лаш зачем-то копошилось в ночи, позволяя ветру терзать и трепать полы длинных плащей.
— Где это? — испуганно спросила Тория.
— Молчи, — выдохнул сквозь зубы Луаян. — Уходит…
Картинка поблекла, будто покрывшись грязно-молочной плёнкой, потом обернулась белой восковой мутью, и только в самой глубине её осталась мерцать приглушённая искра.
— Какой плохой день, — пробормотал Луаян, будто бы сам удивляясь. — Какая нехорошая ночь…
Вытянув руки, он простёр ладони над зеркалом, и Эгерт, замирая, увидел, как проступают сквозь кожу сплетения вен, сухожилий, сосудов.
Зеркало помедлило и потемнело снова — декан отдёрнул руки, будто обжегшись, и Эгерт снова разглядел ночь, людей и факелы — огней, кажется, стало больше, все они движутся в странном порядке, и плащеносцы вокруг согнули спины, будто кланяясь, и мерно, размеренно нагибаются — отсчитывают поклоны?
— Эгерт, — спросила Тория глухо, — может быть… Это ритуал? Ты знаешь, какой?
Солль молча покачал головой — само упоминание о его давнишней причастности к Лаш, пусть невольной, пусть несостоявшейся, было сейчас тяжёлым упрёком; Тория поняла свою промашку — и виновато стиснула его руку. Декан кинул на обоих быстрый косой взгляд — и снова склонился над чашей.
Фигуры то уходили в темноту, то выхватывались из неё — и ни разу ясно, всё урывками, клочками, отдельными деталями: чей-то сапог в размытой глине, мокрая пола плаща, однажды Эгерт вздрогнул, узнав всклокоченные седины Магистра… То и дело подступала белая восковая муть, и декан тогда скрипел зубами, вытягивал над зеркалом ладони — но муть уходила не сразу, будто неохотно, будто в сговоре с плащеносцами…
— Где это, отец? — снова спрашивала Тория. — Где это? Что они делают?
Декан только грыз губы, раз за разом отвоёвывая ускользающее, неверное изображение.
К рассвету все трое измучились, и тогда зеркало, измучившись тоже, покорилось наконец полностью, признало волю декана, и белая муть отступила. Той, скрытой в серебряной чаше ночи тоже приходил конец — картинка серела, огни отражённых факелов блекли, и трое, склонившиеся над зеркалом, одновременно разгадали тайну ритуальных поклонов.
Выстроившись вокруг высокого холма — Эгерт узнал то место, откуда они с Торией любовались рекой и городом — плащеносцы, вооружённые лопатами, не покладая рук отворачивали землю. Чёрные груды её высились тут и там, будто отмечая путь исполинского крота; кое-где среди комьев желтели — Эгерт подался вперёд, невольно выпучив глаза — желтели кости и даже черепа, несомненно человеческие, несомненно давние, и земля лезла из пустых глазниц.
— Это, — сдавленно вскрикнула Тория, — это же тот холм… Это…
Зеркало разбилось. Во все стороны брызнула вода; декан Луаян, вечно невозмутимый, бесстрастный декан изо всех сил бил и бил по ней ладонью:
— А-а…. Просмотрел. Проклятье… Проклятье! Пропустил, просмотрел…
Свечи, прогоревшие всю ночь и не оплывшие, разом погасли, как от порыва ветра. Замигав полуослепшими глазами, Эгерт не сразу различил в рассветном полумраке перекошенное горем лицо Луаяна:
— Просмотрел… Моя вина. Безумцы… Мерзавцы. Они не ждут окончания времён, они призывают его… Уже призвали.
— Этот холм… — повторила Тория в ужасе. Декан крепко взял себя за голову, с мокрых рук капала вода:
— Этот холм, Эгерт… Там похоронены жертвы чудовища, Чёрного Мора, там логово его, заваленное, закрытое от людей… Чёрный Мор когда-то опустошил город и окрестности, он опустошит и землю, если его не остановить… Ларт Легиар остановил Чёрный Мор. Ларт Легиар, это было много десятилетий назад… Теперь некому. Теперь…
Декан застонал сквозь зубы. Выдохнул; отвернулся, отошёл к окну.
— Но господин декан, — прошептал Эгерт, едва справляясь с дрожью, — господин декан, вы великий маг… Вы защитите город и…
Луаян обернулся. Взгляд его заставил Эгерта прикусить язык.
— Я — историк, — сказал декан глухо. — Я — учёный… Но я никогда не был великим магом и никогда уже не стану им. Я так и остался учеником, подмастерьем… Я не великий маг! Не удивляйся, Тория… Не смотрите так жалобно, Солль! Мне подвластно только то, что мне подвластно; ум и знания делали меня хорошим магом — но не великим!
Некоторое время в кабинете стояла тишина; потом, ближе и дальше, тише и громче, одна за другой, подхватывая ужас друг друга — по городу завыли собаки.
Кто мог предположить, что в подвалах города ютится столько крыс.
Улицы кишели серо-бурыми спинами, собаки шарахались, заслышав дробный топот лапок и шуршание сотен кожистых хвостов, метались, жались к дверям, скулили и выли до тех пор, пока рядом не грохал о стену тяжёлый камень, пущенный чьей-то дрожащей и оттого не очень меткой рукой. Особо отважные мужчины выходили на улицы, вооружившись тяжёлыми палками, и лупили, лупили, метя в розовые усатые морды с оскаленными жёлтыми зубами.
В тот день не торговали лавки и не работали мастерские; всеобщий страх висел над городом, как душный полог, и хозяевами на улицах были крысы. Забившись в дома с наглухо закрытыми ставнями, люди страшились говорить вслух — и у многих в тот день было чувство, что по улицам города, по щелям в дверях и ставнях бродит пристальный, холодный, изучающий взгляд.