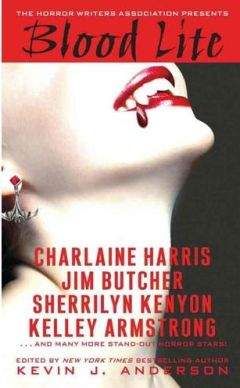Ознакомительная версия.
— Я постараюсь, — сказал Жёлудь и спросил: — А мы будем пытать Тибурона?
— Нет, сынок, — сказал Щавель. — Сегодня не будем.
* * *
Далеко за лесом, по дороге от Клина к Москве, в сопровождении тщедушного китайца шагал рослый каторжник с птицей ГРУ на плече.
— Эх, Тибурон, Тибурон, — шептали его губы, Удав давно не замечал, что говорит вслух. — Я иду к тебе, мой милый. Не бросай меня, дружок.
При этих словах Ли Си Цын печально тряс головой, но не отставал от длинноногого спутника, нагоняя его вприпрыжку.
Когда грусть разлуки переполнила сердце Удава, Отморозок отбежал на обочину, грохнулся на колени, вскинул кулаки к небу и во всю глотку завыл в поднимающуюся полную луну:
— Кендарааат!
— Мать, мать, мать… — привычно откликнулось эхо.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,
в которой Михана жжёт, грызёт и мучает зависть злоедучая, а Тибурон рассказывает истории, приводящие в замешательство даже видавших виды мужей
Ночная фишка выпала Михану с двух до четырёх, самое поганое время. Напарником назначили Долгого — долговязого лобастого дружинника, молчаливого и насупленного, словно на чело его наложили проклятие вечной тени. Заступая на пост, Долгий проверил засов, дёрнул на себя так, что тяжеленные воротины качнулись, будто пёрышки, заскрипели недовольно и боязливо. «Пост принял», — доложил мрачный ратник и больше не произнёс ни слова, только прохаживался, держа копьё в опущенной руке, да прислушивался.
Михан же выстаивал фишку, опираясь на древко и так бдя. Спать хотелось, да не спалось. Терзали парня зависть и обида. Недавний гость, которого Щавель привёл и за стол рядом усадил, потом, когда Жёлудь Тавота сцапал, Скворец с Литвином увели наверх. Уж ясно было, что встрял гость, а через время командир лично его проводил, по-доброму, едва ли не с почестями. И Жёлудь следом. Дурень стал правой рукой! Но ведь только что вместе на фишке стояли, из одного котелка хлебали, а теперь Жёлудь вознёсся, зато сын наипервейшего в Тихвине мясника, парень справный, опускается на самое дно! Наоборот должно быть — молодцу стоять подле командира, а дураку, пусть и сыну боярскому, тусоваться поодаль.
Как несправедлива жизнь!
Ещё парню хотелось узнать, за что угорел раб Тавот. С той поры, как его утащили наверх, о злосчастном колдуне не было слышно. Известно только, что Лузга добывал плеть, но ни воплей, ни вёдер с кровавой водой из нумеров не поступало. Лузга же на двор выходил, всё огрызался, да гавкал отчего-то пуще обыкновенного. Загруженный поручениями Михан не улучил момента подойти расспросить. А Жёлудь и вовсе неродной стал. Ходит гоголем, глядит пушкиным, речи ведёт графом толстым. С тем, каким вышел из Тихвина, и сравнения нет. А всего минуло пять недель.
Пять недель… Парень вздохнул. Кажется, год уже в походе, и повидал всякого, и разное случалось. Всё вместе, а теперь отстранили от движухи. Щавель даже в битве не доверил поучаствовать, отослал за Тавотом. Раненых дружинников взял, а его задвинул, славы лишил. Резня, говорят, была знатная. Мало кто подобную помнит. И вот с этим запросто прокатили! За что ж так, командир? Или не доверяет больше, прознав о разорении склепа Бандуриной? Но Жёлудя-то держит возле себя, в разведку с ним ходит. Понятно, Жёлудь — отпрыск родной. А он кто? Сын мясника. Если припомнить, с отцом Щавель и не разговаривал почти. Как за червя навозного почитал должно быть. Щавеля не поймёшь, ко всем холоден, а разозлится — такого морозу напустит, что в штаны вот-вот наложишь. Жёлудь таким же становится. В Тихвине был дурак дураком, обычный парень, а как в боях побывал, сразу порода проявилась. Жуткий человек этот Щавель, людей под себя влёгкую гнёт. Дружинники поговаривают, что ему хребет становой сломать в характере, как сухую хвоинку. Вроде даже светлейший князь его побаивается, долгие годы держал вдали от себя. Ему, князю-то, виднее.
Михан припомнить не мог, чего такого особенного учинил в походе старый лучник, что не делал в Тихвине. Так же охотился, притаскивал из леса разбойников, сажал на кол. Взбадривал чухну, ходил на восточный берег Ладоги давить чудь карельскую, не позволял расслабиться гарнизону. И вот, князь призвал его к себе, одного, без войска. Хорошо, Жёлудь вовремя проболтался и удалось уговорить дядю Щавеля взять с собою в Великий Новгород. Суров, но справедлив командир Щавель, и чего, спрашивается, князь его боится? Видел Михан столицу Святой Руси. Силён князь — не людьми, горами ворочает. Большая честь послужить ему. Надо радоваться, что приняли в дружину. Только вот что-то нерадостно.
Михан скрипнул зубами, переступил с ноги на ногу. Левая рука нащупала в кармане и сжала греческий красный платок.
* * *
— В древние времена Москва была окружена кольцом монастырей, чтобы никакая гадость из неё не просачивалась. Внутрь можно, назад никак, там она и плодилась, с лютой злобы и с голоду пожирая самоё себя. Баланс сохранялся, пока защиту не порушили большаки. Поначалу они сдерживали напасть репрессивными мерами, но зло прорвалось на рубеже тысячелетий. Воры взяли власть, у всех приличных людей задрожали колени, шлюхи кинулись к корыту и пришёл Большой Пиндец.
Филипп говорил веско и со всей ответственностью. Щавель слушал его, ковыряя щепкой в зубах после обильного завтрака. Следовало основательно подкрепиться — предстояло продолжение допроса Тибурона.
Допросное дело вещь хитрая. Если не занимаешься им регулярно, а лишь изредка, оно изматывает не меньше, чем ответчика. Когда Щавель поднялся в нумер, пленный колдун ожидал своей участи, сидя в углу. За неимением колодки, ноги его были примотаны к толстому полену, между щиколоток привязали руки. Он всю ночь просидел согбенным и не спал. Когда командир вошёл, Тибурон с усилием поднял голову и проводил его злыми чёрными глазами.
— Как он?
— Молчит всю дорогу.
Оставленный на страже Лузга занимался перезарядкой стреляных гильз. Распотрошил свою котомку, расстелил на постели тряпицу, раскрыл коробочку с капсюлями, разложил причиндалы. Выковыривал шильцем пробитый капсюль, загонял на его место новый, заполнял мерку порохом, засыпал его в гильзу, затыкал пыжом. Пули от мушкетонов кромсал на восемь частей, засыпал вместо картечи, притыкал пыжом и уминал края гильзы. Любо-дорого было смотреть на его работу.
— Как, оружейник, есть ли порох в пороховницах?
— Был, да весь вышел, — с досадой тряхнул ирокезом Лузга. — Потратили почти целиком.
— Это всё? Только тот, что у тебя?
— Осталось мальца у огнестрельщиков, но у них на донышке, по разу зарядить.
Ознакомительная версия.