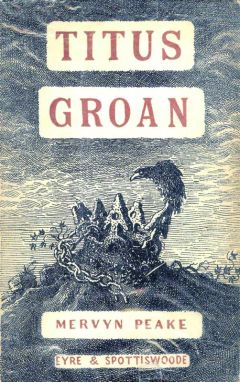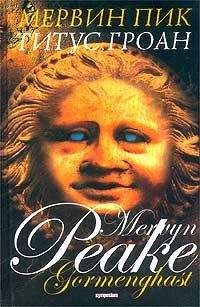— Да, конечно. Но не смогли бы вы оказать мне две услуги, совсем незначительные?
— Возможно, — сказала Фуксия. — В чем они состоят? Я устала.
— Во-первых, я хочу от всего сердца попросить вас, чтобы вы попытались понять, в каком напряжении я пребывал, — и попросить также, чтобы вы, пусть даже в последний раз, встретились со мной, как встречались столь долгое время, и поговорили еще немного — не о нас, не о наших бедах, не о моей вине, не об этом нашем ужасном разладе, но о вещах более радостных. Согласитесь ли вы встретиться со мной завтра, на таких условиях?
— Я не знаю! — сказала Фуксия. — Не знаю! Но, наверное, да. О господи, наверное, да.
— Благодарю вас, — сказал Стирпайк. — Благодарю вас, Фуксия… А вторая моя просьба вот в чем. Если вы вдруг решите, что Сатана вам не нужен, верните его мне, потому что он ваш… и… — Стирпайк отвернулся и отошел на несколько шагов. — Ты ведь хотел бы знать, кто твой хозяин, не правда ли, Сатана?.. — воскликнул он голосом, в котором звучала претензия на галантность.
Внезапно Фуксия озлилась на него. Она словно бы только сейчас уяснила, насколько остр данный ей от природы ум. Она оглядела пегого молодого человека с обезьянкой на плече, и слова ее вонзились в это бледное существо, как кинжалы.
— Стирпайк, — сказала она. — По-моему, у вас не все дома.
И с этого мига Стирпайк знал, что на следующую ночь, когда она придет сюда, он овладеет ею. А после того, как с дочерью Графини соединится тайна столь страшная, ей останется полагаться лишь на его милосердие. Он ждал слишком долго. Однако теперь, сразу за совершенной им ошибкой, настало время нанести удар. Он чувствовал первые слабые признаки того, что почва начала выскальзывать из-под его ног. Раз уж хитрость и осмотрительность подвели его, остается только одно. Время милосердия миновало, и хоть Фуксия показала, в какую она способна обращаться тигрицу, он овладеет ею — а там с неспешной плавностью грозовой тучи, воспоследует и шантаж.
Когда Флэй услышал, как прямо под ним тихо отворилась дверь, он затаил дыхание. Несколько мгновений никого видно не было, затем некая фигура, еще более темная, чем сама темнота, выступила из двери в коридор и быстро двинулась к югу. Дверь затворилась, и Флэй спустился с шедшего над входом в покой Стирпайка длинного каменного полка, повисел на длинных костлявых руках, растянув их до последней возможности, и спрыгнул на пол, лишь несколькими дюймами отделенный от его ступней.
Отчаяние, порожденное в нем невозможностью уловить хоть что-то из происходящего в комнате, было сравнимо лишь с ужасом, охватившим его, когда он понял, что тайной гостьей Стирпайка была сама Фуксия.
Он чувствовал, что Фуксия в опасности. Ощущал это всем нутром. Но и не мог так вот вдруг, среди ночи, объявить девушке, что ей что-то грозит. Собственно, не мог и сказать что именно: он и сам того не знал. Приходилось действовать наобум, и Флэй прошептал в темноте несколько слов, надеясь, что слова эти послужат предостережением, хотя бы вследствие ужаса перед сверхъестественным, который они ей внушат.
За Фуксией Флэй проследовал лишь до места, с которого смог убедиться, что она добралась до своей комнаты без помех. Только это и мог он сделать, не окликая ее и не обгоняя, ибо пребывал в совершенной растерянности, смущении и испуге. В невзрачной жизни Флэя любовь к этой девушке была чем-то стоявшим от всего прочего особняком. Как ни был он привязан к Титусу, именно память о Фуксии — не о мальчике и не о каком-то еще живом существе — сообщала кремневой тьме его души толику теплоты, казавшейся столь чуждой его натуре, которая знала одно лишь служение Горменгасту, этой абстракции широко раскинувшегося камня.
И он сознавал, что обязан заговорить с нею этой ночью. Смятение, читавшееся в ее движениях: Фуксия то и дело переходила с шага на бег, — служило достаточным доказательством того, что она безумно устала и — чего Флэй страшился пуще всего — попала в беду.
Флэй не ведал, что сказал или сделал Стирпайк, но знал: юнец причинил ей боль, — и если бы не открывшаяся наконец возможность отыскать хоть что-то, обличающее негодяя, Флэй вернулся бы к комнате, из которой вышла Фуксия, и, дождавшись, когда Стирпайк переступит ее порог, голыми руками отодрал бы пегую образину его от головы.
Тяжкая боль сжимала лоб возвращавшегося в роковой коридор Флэя, мысли его вихрились, гоняясь одна за другой в сумятице гнева и домыслов. Флэй не мог знать ни того, что каждый шаг не приближает его к привычной комнате, но отдаляет от нее — отдаляет во времени и в пространстве, — ни того, что сегодняшние приключения не только не подходят к концу, но напротив, по-настоящему лишь начинаются.
Стоял уже самый глухой час ночи. Флэй возвращался медленно, с трудом волоча ноги, временами приостанавливаясь, чтобы прижаться лбом к холодным камням, а боль била, как молотом, за глазами его и угловатым лбом. Один раз ему пришлось присесть, и он целый час провел на нижней из выдолбленных временем ступеней каменной лестницы; длинная борода его опадала на колени, обтекала их острые изгибы и падала дальше, так что торчавшие в разные стороны, со струнами схожие волосы, всего на несколько дюймов не доходили до пола.
Фуксия и Стирпайк? Что это может значить? Какое кощунство! Какой ужас! И Флэй скрежетал во мраке зубами.
Замок безмолвствовал, как некое зарубленное секирой чудовище. Недвижное, бездыханное, распластанное. Казалось, ночь, подкрепляя мрак свой своим же безмолвием, тщится доказать бессмысленность любых помышлений о приходе зари. Нет никакой зари на свете. Заря — лишь выдумка тьмы, бабушкина ночная сказка, незапамятно древняя, повторяемая век за веком в извечной тьме; пересказываемая и пересказываемая гномовым деткам в подземных проходах и пещерах Горменгаста — сказка из иного мира, где камни, и кирпичи, и побеги плюща, и железо можно не только ощупывать и обнюхивать, но и видеть, где они освещаются и обретают краски, где в предопределенное время медовый свет разливается на востоке, и тьма осыпается, точно окалина, и то, что там называют зарей, встает над лесами, подобное воплотившемуся мифу, ожившей легенде.
То была ночь с мордой быка. Но морду эту стягивало вервие, и кляп торчал изо рта ее. Ночь с глазами гиганта, закрытыми клобуком.
Единственным, что слышал Флэй, был стук его сердца.
Уже много позже, в неустановимый час той же ночи или черного, ровно смоль, утра, господин Флэй, давно миновавший дверь в коридоре, невольно остановился, едва начав пересекать маленький, окруженный аркадами дворик.
Вряд ли его могла испугать единственная обозначившаяся в небе полоска багровой желтизны. Ведь знал же он, что заря неотложна. И уж верно не красота этой полоски остановила его. Ни о какой красоте Флэй и не помышлял.
В середине двора росло терновое дерево, и внимание Флэя приковал угольный силуэт той части его, что перерезала желтизну рассвета. Очертания старого дерева Флэй знал слишком хорошо и потому теперь пригляделся к корявому, ветвистому стволу повнимательнее. Ствол показался ему толще обычного. Более-менее ясно Флэй различал лишь ту его часть, что рассекала полоску рассвета. Часть эта вроде бы изменила привычные очертания. Похоже, кто-то стоял, прислонясь к стволу и чуть увеличивая его толщину. Верх незнакомой фигуры перечеркивался ветвями, и Флэй пригнулся, чтобы увидеть ее на большем протяжении. Теперь, глядя под другим углом, он смог яснее разглядеть то, что располагалось под нависающей кроной, и мышцы Флэя напряглись, поскольку ему представилось, что на фоне просвета в небе — одевавшего все остальное, и на земле, и вверху, еще большей чернотой — непонятный очерк сужался слева от ствола в нечто, схожее с шеей. Беззвучно опустился Флэй на колени и тогда-то, опустив голову и возведя глаза, он увидел не заслоненный ничем профиль Стирпайка. Тело юнца и затылок сливались с деревом, словно все они вырастали из земли, как единое существо.
Стало быть, так. Общая тьма наверху и внизу. Горизонтальная струя шафрановой желтизны и, подобный кривому мосту, соединяющему верхнюю тьму с нижней, силуэт грубого ствола тернового дерева и профиль среди ветвей.
Что он делает здесь, в темноте, одинокий, недвижный?
Флэй распрямился и приник к ближайшей колонне аркады. Ясно очерченное лицо врага его тут же заслонилось ветвями. Но то, что задержало внимание Флэя, — непривычный очерк ствола — распознавалось теперь, как согнутый локоть молодого человека и линия его таза и бедра.
Ни на миг не задумавшись над своей инстинктивной уверенностью в том, что затевается новое злое дело, господин Флэй изготовился к длительному, если понадобится, бдению. Ничего не было дурного в том, чтобы стоять, прислонясь к терновому дереву, и наблюдать, как первое сияние утра пробивается сквозь желтоватый просвет, — даже если к дереву прислонялся не кто иной, как Стирпайк. Не существовало ни единой причины, по которой он не мог бы в любое мгновение вернуться к себе и лечь спать либо предаться иному, равно невинному занятию.