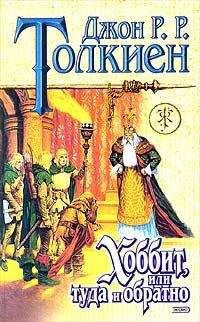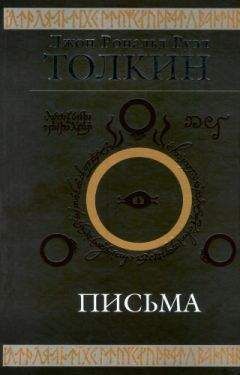К сожалению, русский язык не располагает синонимами к слову «гном» (в отличие, например, от польского, где есть нейтральное слово krasnoludek), и переводчики были лишены выбора. В письме Толкина к издателю журнала «Observer» в ответ на опубликованную там 16 января 1938 г. статью (П, с. 31) говорится: «Гномам были даны скандинавские имена, что верно, то верно; но это не что иное, как уступка редактору, В языках того времени многие имена на наш слух звучат устрашающе. Имена гномов сложны и неблагозвучны. Даже эльфийские филологи избегали упоминать их в своих писаниях, так что при общении с другими расами гномам приходилось переходить на чужие языки». Так Толкин полушутливо, полусерьезно впервые упоминает о той воображаемой роли «переводчика», которую он-де играет по отношению к легендам Средьземелья. Позже эта «мифологизация» образа автора получает развитие в Приложении к ВК, а также в некоторых других текстах Толкина, образуя часть общего смыслового фона легенд средьземельского цикла, В подобном же духе выдержан один из справочников по Средьземелью, выпущенных в Англии в 60-80-е гг., принадежащий перу X. Дайсона (ХК). В русле этой игры автор утверждает, что мир Средьземелья им не выдуман – он-де является только «переводчиком», использовавшим при переводе подлинных средьземельских текстов языки, на которые «переводчик» перелагает «оригинальный» текст и которые в наше время считаются древними, но по сравнению со средьземельскими их можно с небольшой погрешностью считать практически современными.
В то же время гномы у Толкина сохраняют многие традиционные черты характера, роднящие их с гномами волшебных сказок. Это любовь к золоту, небольшой рост, работа в подземных рудниках (цверги скандинавских легенд также обитают под землей), богатство, мрачность и неблагодарность. Гномы держат свой родной язык в тайне; об этом упоминается в сказке братьев Гримм «Румпельштицхен». Интересно, что сам Толкин в письме к Н. Митчисон от 8 декабря 1955 г. (П, с. 229) сравнивает гномов с… евреями: они-де так же преданы своим обычаям, не растворяются в других расах, говорят на языке тех стран, где живут, но с акцентом свойственным их родному языку. О происхождении гномов в Средьземелье см. прим. к ВК, гл. 4 ч. 2 кн. 1, Дьюрин.
С. 18
…унесся мыслями… далеко-далеко от его хоббичьей норы под Холмом.
Шиппи (с. 58) считает, что Бильбо Бэггинс выступает в сказке поначалу как своеобразный «двойник читателя», Он не знает правил игры, действующих в «настоящем большом мире» героики и архаики; благодаря ему читатель чувствует себя «не так одиноко» и вместе с Бильбо проходит «ступени посвящения». Вместе с тем у читателя возникает иммунитет к соблазну смотреть на мир эпоса свысока.
С. 19
…На город двинулся дракон.
Драконы, согласно мифологии Толкина, одни из древнейших обитателей Средьземелья, В первые Эпохи драконы были здесь довольно многочисленны. Наиболее знамениты драконы Глаурунг и Анкалагон Черный. Летописи упоминают о трех разновидностях драконов: Урулоки (огнедышащие, но бескрылые), летающие огнедышащие и «холодные». Большинство драконов умело напускать чары, все без исключения отличались силой, недюжинным умом, сообразительностью и алчностью, а также невероятным коварством. За появление в Средьземелье драконов ответственность несет Моргот (см. прим. к ВК, гл. 5 ч. 2 кн. 1, Темное пламя Удуна). Драконы, которые не состояли ни у кого на службе, вели обычно нескончаемую войну с гномами за гномьи сокровища; однако некоторые драконы в разное время состояли на службе у темных сил Средьземелья и участвовали в войнах с людьми и эльфами. Большинство драконов погибло с ниспровержением Моргота, что случилось в конце ПЭ (см. там же).
Толкин считал драконов одним из самых могущественных мифологических образов мирового фольклора и поэзии. В своей лекции «Чудовища и критики» (см. прим. к ВК, гл. 2 ч. 2 кн. 1, В чем истинная мудрость?) он писал о них так:
«Правильный, трезвый вкус отрицает, что для нас – для гордых нас, каковое понятие включает в себя всех живущих ныне образованных людей, – остался еще хоть какой-то интерес к ограм и драконам; немудрено, что этот самый „трезвый вкус“ встает в тупик, когда замечает, что его обладатель получает глубочайшее удовольствие от поэмы, как раз об этих вышедших из моды существах и написанной». Для автора древнеанглийской поэмы «Беовульф», продолжает Толкин, драконы могли быть не так уж и далеки от реальности, и, уж конечно, языческие предки поэта вполне могли думать о драконах как о тварях, реальная встреча с которыми отнюдь не исключена. Дракон для автора «Беовульфа» был созданием из плоти и крови, а не аллегорией, как в позднее средневековье, когда он стал олицетворять зло и диавола и перестал быть «просто драконом». Но и «просто драконом» он для автора «Беовульфа» уже не был. В тот переходный от язычества к христианству период дракон мыслился чем-то средним между аллегорией и реальностью: это был персонаж и символ одновременно. Шиппи (с. 37) замечает, что подобный подход был ближе всегосамому Толкину как автору (в известном смысле Толкин видел сходство между собой и автором «Беовульфа»; см. об этом также прим. к ВК, гл. 1 ч. 2 кн. 1, Эарендил). «Дракон – это отнюдь не какая-нибудь досужая выдумка, – пишет Толкин. – Каким бы ни было происхождение этого образа, взят ли он из реальности или вымышлен – дракон древних легенд является мощным творением человеческого воображения, и смысла в нем не меньше, чем золота в его сокровищнице». По Толкину, для «Беовульфа» особенно символично то, что именно дракон является последним врагом героя, что Беовульф встречает смерть в схватке с явлением нечеловеческого порядка, «Именно потому, что главные враги в „Беовульфе“ – нелюди, поэма куда величественнее изначительнее, чем обычные легенды о человеческих войнах, – пишет Толкин. – Она приобщает космосу и следует по пути общечеловеческих раздумий о предназначении человека и смысле всех усилий; она стоит среди повестей о малых войнах человеческих князей, но заметно возвышается над ними и простирается далеко за даты и границы исторических периодов, как бы важны они ни были сами по себе… Будто с воображаемой высоты смотрим мы на долину мира сего, где стоит дом человека. Из окон дома льется свет – lihte se leoma ofer landa fela – и слышен звук музыки; но внешняя тьма и ее враждебные исчадия всегда лежат в засаде, ожидая, пока померкнут факелы и замолкнет пение… Дракон – символ живой тьмы, окружающей человека в этом мире… Драконы, настоящие драконы, играющие существенную роль как в построении сюжета, так и в идеологии произведения, встречаются в сказаниях крайне редко. Если не упоминать огромного и неопределенного Змея, Опоясывающего Мир, Мидгардсормра, несущего гибель великим богам и не имеющего никакого отношения к героям, остаются только дракон Вельсунгов Фафнир и тот дракон, что погубил Беовульфа. Справедливо, что в „Беовульфе“ фигурируют оба дракона – один участвует в действии, о другом упоминает менестрель… „Автор Беовульфа“ ценил драконов, существ столь же редких, сколь и ужасных, очень высоко. Он любил их как поэт, а не как зоолог, и у него были на то серьезные причины». Дракон в северной мифологии являлся представителем класса «чудовищ», известных также и другим мифологиям, например греческой. Однако, подчеркивает Толкин, концепция «чудовищ» у северян была существенно иной, чем у греков, в чьих мифах монстр мог быть, скажем, сыном бога и находиться под его защитой (как Полифем, ослепление которого навлекло на Одиссея гнев Посейдона). Враги героев у древних скандинавов всегда являются также и врагами богов: это – персонифицированные силы тьмы, «порождения ада». В извечной борьбе человечества и богов с Хаосом чудовища сражаются на стороне Хаоса, и вплоть до самого Пришествия Христова Хаос неизменно выходит победителем. Так, Беовульф, одержавший столько побед, в конце концов гибнет в схватке с порождением Хаоса – драконом. «Чудовища были врагами богов и вождей людского племени, и чудовища рано или поздно должны были победить, – пишет Толкин. – Героически держа осаду перед лицом последнего поражения, люди и боги сражались в одном войске».