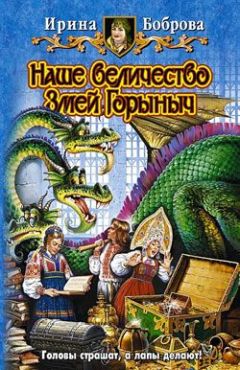Из кромешной тьмы колодца, на две трети видимой глубины, медленно поднялась в темно-синем блеске островерхая башня. Маковица ее столь же неторопливо раскрыла огненный зев и выпустила из нутра своего тотчас узнанный Пичугою Алатырь-камень. На этот раз камень не стал дожидаться голоса, и свет его морозный не рассыпался радугой. Наоборот. Волны метелицы взялись быстро перемежаться темными прорывами, которые множились, покуда напрочь не заполнили собой всю начальную белизну.
Накатила странная ночь, в которой проглядывалось все до последней мелочи. Но проглядывалось так, ровно с уходом красного солнца черное принялось вытягивать забранный землею дневной свет обратно. Как бы вымерзая, он обтекал мерцанием каждую встречную грань, каждый излом, чем и обнаруживал в темноте всякое явление.
Это марево скоро выявило на середине Алатырь-камня широкий блин подставы, на которой обрисовалось то, что можно было бы назвать царицею, не будь владычица...
Одним словом, в урмане, среди Шумарковой слоти, Северга не показалась Пичуге столь негодящей. Может, в сравнении с хозяйкою алого наряда так изрядно проигрывала она, только ведьмою на болоте владычица гляделась куда как сноснее, нежели теперешней государыней.
Первые же слова, коими она разрешилась, донесли до Ясиных ушей торжество ее победы.
- А-а-а! - в клокотании скорого веселья выпорхнуло из колодца. Явилась?! То-то же...
Пичуга, принявши на себя злой восторг, собралась было пояснить в глубину, что она и не настраивалась увиливать от обещанного. Да опередил ее горестный вздох красавицы, после которого послышался чистый голос:
- Явилась.
- Все-таки надумала меняться?
- Не меняться - смерти просить пришла я.
- Опять смерти! - загремела глубина и отдала шипением. - Да ежели ты и умудришься когда умереть, я тебя из праха подниму! Но чтобы не было мне лишней заботы, отныне и до срока телу твоему хранить для меня красоту свою, будучи ввергнутым в живое небытие. А душе твоей, отторгнутой в вечных муках, скитаться по чужим судьбам. И являться ей перед телом своим в столетие раз. Через ее стенания и жалобы красота твоя покорится мне!
- Вряд ли, - отвечала красавица. - Покуда на мне эта накидка, ее мольбы не дойдут до меня. Тебе же, стоит только прикоснуться к ней, развеяться в небыль ночным кошмаром. И тогда я вернусь в жизнь сама собою.
С этими словами девушка подалась вперед. Яся машинально кинулась удержать ее на краю колодца, да только алая накидка осталась у нее в руках...
Страшным хохотом разразилась Северга. Земля разверзлась от его раската. Из глубины вскипела вода. Она успела подхватить красавицу, вскинуть ее, как бы желая показать Ясе тот самый ужас, который она уже видела на лице ее, и поглотить несчастную. Черное солнце вдруг дохнуло с неба такою стужею, что даже Пичуга, окутанная восходящим теплом, почуяла ее жестокость. Другая волна, уже тяжелая, захватила оторопевшую Ясю, понесла куда-то, где вытолкнула из себя и закаменела на лету. В ее толще, притуманенной мириадами пузырьков, тут же обрисовалось тело красавицы.
* * *
Разразилась тут
Яга Змиевна
сокрушительным
смехом-хохотом.
Ей Горыныч-Змий
отокликнулся...
От того ли смеха
раскатного
раздалась Земля,
море вспенилось,
накатила стынь
сорока миров...
* * *
И на этот раз Пичуга вытерпела увидеть: девичье лицо ожило, тяжкий вздох пронесся по ледяному подземью. Стылые пределы отозвались тихим звоном, в котором услыхалось:
- Душа моя. Ты полюбила земного человека. Передай Северге: ради твоей высокой любви я уступаю ей...
"Что же это?! - подумалось Ясе. - Из-за того, чтобы ведьме стать красавицей, Егору придется полюбить дерганую обезьяну?!"
- Не-ет, - прошептала она. - Нет! - крикнула. - Никогда! Лучше я тут останусь... навеки...
* * *
По сей день тот смех
лихорадостный
по горам-долам
катит грозами;
по сей день красе
очарованной
от бессмертия
избавленья нет;
по сей день душе
неприкаянной
нет ни жизни,
ни погребения...
* * *
Ну, а в деревне Большие Кулики смута. Казалось бы, где уж там, а вот тебе на: шаловатая Устенька с ума съехала. Дочка-то ее Яся не захотела мириться с дурной судьбой и отравилась. Дед Корява видел из оконца, как вышла она на крылечко, попрощалась с белым светом и повалилась, и... нет ее.
Устенька в это время где-то моталась. Бабы успели и омыть Пичугу, и в саван обрядить. Тут и шалавая мать налетела. Всех повыгоняла из хаты и затворилась наедине с покойницей. И вот уж как трое суток Пичуга земле не предана. Стучали, вразумляли - не отзывается Устенька. И ни стону, ни причету... Спятила. Все верно: и для Жучки кутя родней царского дитя...
Ну вот... Люди в деревне были не такие, чтобы уж вовсе - полено с дубиною. Которые совестливые, те взмучились своей виной: угробили певунью; которые попроще устроены, те кинулись виноватого искать.
Нашли, конечно, - Серебруху Егора.
- Ишь ты, - накинулись, - летатель! Завихрил убогой головушку... Долетался, придурок самоделошный...
И взялись его костерить - кто во что горазд. Ведь попранному царю всякий каин - хозяин...
Но не нападки односелов главною мукой сказались на Серебрухе: с уходом Пичуги перед ним всею наготой открылся тот предел, об который, в падении своем, ему предстояло расшибиться. Тут и опомнился Егор. Три ночи знобило его, на четвертую встал-поднялся, пошел и стукнул в соседкино оконце.
- Тетка Устинья, - позвал. - Отвори. Дай мне рядом с Ясей помереть.
А ему, как бы ответно:
- Не-ет! Никогда...
И еще чего-то прибавилось - не разобрал. Только Серебруха и по двум словам понял, что не Устенька ему ответила - молодой голос отозвался.
Силы небесные!
Откуда взялась в нем ломовая крепость? Даже не разбегался, но дверь под его натиском располохнулась, будто на живую нитку прихваченная.
Влетел он в избу, а темнотища! Только парень и на этот раз сердцем смотрел: вконец, видно, обезумевшая Устенька дочку-то... подушкой прикинула... Пичуга ногами еще подергивает, а голоса уже не подает...
Тем временем дома дед Корява Егора хватился. Сообразил, куда тот мог ночью отправиться. Соседей поднял, свехнутые-то они ой как могутны. Однако Серебруха сам управился - спеленал Устеньку. Когда подмога подоспела, уж он с Ясею на руках из хаты вышел. И сразу вокруг них поднялся тихий галдеж: