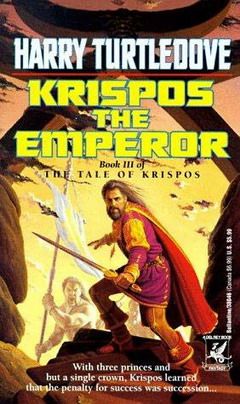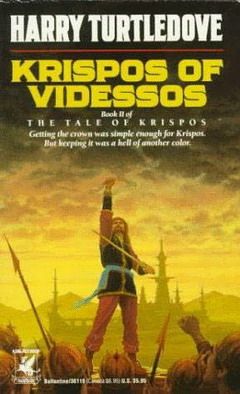— Иногда — в лед умников, — слабым голосом повторил Фостий. Наконец-то он понял, какой ценой удовлетворил Сиагрия: сперва он оказался слишком труслив, чтобы отказаться от приказанного, а потом выдал дезертирство за храбрость.
Подобная мораль оказалась для него слишком скользкой. Он испустил долгий усталый вздох.
— Да, спи, пока можно, — сказал Сиагрий. — Завтра нам придется много скакать, пока мы не убедимся, что окончательно оторвались от вонючих имперцев. Но мне придется отвезти тебя в Эчмиадзин. Теперь-то я уверен, что ты с нами, и ты нам очень даже пригодишься.
Спать? Разве можно спать, когда так больно? И хотя самая мучительная боль кончилась, когда извлекли стрелу, рана ныла, словно гнилой зуб, и пульсировала в такт с ударами сердца. Однако вскоре, когда возбуждение от скачки и схватки угасло, на Фостия широкой черной волной накатила усталость. Жесткая земля, болящая рана — не все ли равно? Он заснул как убитый.
Он проснулся, не досмотрев сон, в котором его попеременно то бил, то кусал волк, и увидел трясущего его Сиагрия. Плечо все еще отчаянно болело, но Фостий сумел кивнуть, когда Сиагрий спросил, сможет ли он ехать верхом.
* * *
Впоследствии он изо всех сил старался позабыть возвращение в Эчмиадзин.
Но, несмотря на все старания, не мог забыть мучительную боль, которая пронзала его каждый раз, когда на очередном привале в рану вновь наливали вино. Плечо стало горячим, но лишь вокруг раны, и он предположил, что эта процедура, хотя и мучительная, все же пошла ему на пользу.
Ему хотелось, чтобы на его рану взглянул жрец-целитель, но таковых среди фанасиотов не оказалось. Теологически все было логично: если тело, как и любой материальный предмет, есть порождение Скотоса, то какой смысл особо заботиться о нем? В качестве абстрактного принципа подобное отношение поддержать легко, но когда дело коснулось твоего конкретного тела с твоей конкретной болью, абстрактные принципы быстро показались ерундой.
Фостий с радостью увидел впереди холмы, и не только потому, что Эчмиадзин был домом, который фанасиоты надеялись сделать и домом для Фостия, но еще и потому, что их вид означал, что имперские солдаты не поймают их на дороге и не завершат начатое дело. К тому же, напомнил он себе, в крепости его ждет Оливрия, и лишь ноющая рана не позволила ему насладиться этой мыслью по-настоящему.
Когда отряд приблизился к долине, на дне которой стоял Эчмиадзин, Фемистий подъехал к Сиагрию и сказал:
— Теперь я и мои люди двинемся по светлому пути против материалистов. А вы езжайте по воле Фоса; дальше мы с вами ехать не можем.
— Отсюда я его легко довезу и сам, — ответил Сиагрий, кивнув. — Делай свое дело, Фемистий, и пусть благой бог присмотрит за тобой и твоими парнями.
Спев гимн с фанасиотскими словами, зелоты развернули лошадей и поехали обратно делать «святую» работу — жечь и убивать. Сиагрий и Фостий продолжили путь к крепости Эчмиадзина.
— Мы тебя сперва заштопаем, как полагается, и убедимся, что рука работает нормально, и лишь потом поедем сражаться снова, — пообещал Сиагрий, когда показалась серая каменная громада крепости. — Может, даже и хорошо, что я тоже побуду здесь, а то вдруг придется с чем-то разбираться, пока Ливания нет.
— Как скажешь. — Фостию сейчас хотелось только одного — слезть с коня и не забираться в седло ближайшие лет десять.
Когда они ехали по грязным улочкам к крепости, Эчмиадзин показался им странно просторным. Боль и усталость притупили ум Фостия, и он не сразу догадался о причине. Наконец до него дошло, что солдаты, переполнявшие город всю зиму, отправились прославлять владыку благого и премудрого, уничтожая все, что они считали порождением его злобного врага.
В воротах крепости стояли лишь двое часовых. Внутренний двор опустел, там больше не было солдат, стреляющих из луков, фехтующих или слушающих разглагольствования Ливания. Кажется, все главные приспешники ересиарха покинули город вместе с ним; по крайней мере, никто из них не вышел из башни выслушать доклад Сиагрия.
Фостий вскоре обнаружил, что и башня практически пуста. Шаги его и Сиагрия гулко раздавались в залах, где некогда было тесно от солдат. Но внутри все же осталась жизнь. Из палаты, где Ливаний давал аудиенции, словно Автократор, вышел солдат. Завидев Фостия, опирающегося на плечо Сиагрия, он спросил:
— Что с ним случилось?
— А ты как думаешь? — рявкнул Сиагрий. — Парень только что узнал, что его выбрали патриархом, и теперь даже ходить не может от радости.
Фанасиот ахнул; Фостий старался не хихикать, наблюдая, как до типа постепенно доходит, что Сиагрий пошутил. Сиагрий указал на окровавленную повязку на плече юноши:
— Его ранили в драке с имперцами — а дрался он хорошо.
— Это понятно, только зачем ты его сюда привез? — поинтересовался солдат. — Кажется, не так уж сильно он и ранен.
— Он такой грязный, что на вид не скажешь, но это сынок императора, — пояснил Сиагрий. — И о нем нужно заботиться чуть побольше, чем об обычном солдате.
— Почему? — Подобно любому видессианину, фанасиот был готов из-за любого повода пуститься в теологический спор. — Мы все равны на светлом пути.
— Верно, да только у Фостия есть особая стоимость. И если мы правильно его используем, то он поможет очень многим людям встать на светлый путь.
Солдат принялся разжевывать сказанное, причем буквально — размышляя, он жевал нижнюю губу. Наконец он неохотно кивнул:
— Тут ты, пожалуй, прав.
Сиагрий повернул голову и прошептал Фостию в ухо:
— Знаешь, что самое забавное: я изрубил бы его в вороний корм, коли он сказал бы мне «нет». — Он вновь повернулся к солдату:
— На кухне остался кто живой? А то мы давно голодаем, да только не специально.
— Кто-то должен быть, — ответил солдат, хотя и нахмурился — ему не понравилась дерзость Сиагрия.
С тех пор как Фостия ранило, есть ему почти не хотелось. Зато теперь при мысли о еде желудок громко заурчал. Быть может, это означало, что ему стало лучше?
Доносящиеся с кухни запахи гороховой каши с луком и хлеба еще раз напомнили юноше, насколько он голоден. В столовой высокими стопками стояли миски — напоминание о едоках, которых здесь сейчас не было. За длинными столами сидела лишь горстка людей. Сердце Фостия встрепенулось — среди них он увидел Оливрию.
Она обернулась посмотреть на вошедших. Фостий, должно быть, действительно оказался настолько грязен, как и говорил Сиагрий, потому что бандита она узнала первым. Затем ее взгляд переместился с лица Фостия на окровавленную повязку на плече и обратно. Фостий увидел, как глаза ее расширились.