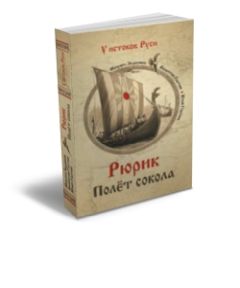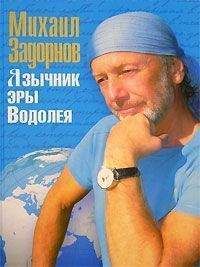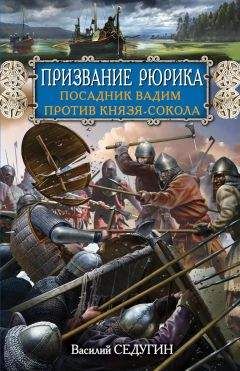— Никого, дядька Кряж, кликать не надо. Сему богатырю сани выгрузить, только члены размять, — кивнул воевода на своего крепкого возницу. — Давай, Сила, выгружай куда рукомысленник скажет!
Сила сбросил тулуп, повязал поверх рубахи кожаный фартук и, даже не надевая рукавиц, принялся носить заиндевевшие железины.
— Эге, чего он делает-то?! — воскликнул озабоченно кузнец. — Руки враз отморозит!
— Не отморожу, дядька Кряж, — улыбнулся бодрич, — вот, разве холодная рука? — он протянул ладонь, которая только что держала покрытую изморозью крицу.
— В самом деле, тёплая, горячая даже! И впрямь, богатырь! — дивился кузнец, глядя, как легко управляется могучий воин с тяжеленными заготовками. — На взгляд видно, что здоров, но чтоб настолько! — изумлялся рукомысленник.
— Он, дядька Кряж, подковы ломает и гвозди самые крепкие в узел завязывает, — улыбнулся Ольг.
— Эге, может, и ломает, да только не мои, мою подкову никакой силач не осилит, ни в жизнь! — гордо вскинул голову кузнец.
— Так чего, воевода, попробовать что ли, подкову-то? — закончив выгрузку, спросил у Ольга Сила.
— Попробуй, попробуй, — загорелся мастер. Он живо сбегал куда-то в свои «закрома» и вернулся с большой подковой. — Вот, держи!
— Хороша подкова, крепкая, — Сила повертел в руках, тщательно оглядывая кузнечную работу. Он помял её пальцами, не то приноравливаясь, не то по-своему «разговаривая» с железом, одним движением плеча сбросил только что накинутый бараний тулуп. Потом ухватил подкову поудобнее, положил себе на грудь и принялся тянуть в разные стороны. Подкова не поддалась.
— Ага, что я говорил, мою подкову не сломаешь! — торжествующе воскликнул кузнец.
Сила чуть присел, отставив правую ногу на полшага в сторону и, прижав железину, на сей раз к бедру, стал тянуть шуйской рукой к себе, а десной от себя. От напряжения на могучей шее и руках вздулись жилы, руки задрожали и… подкова нехотя стала «раскрываться», будто челюсти неведомого зверя. Ещё немного — и богатырь изменил направление усилий, разведя поддавшиеся концы в разные стороны. Рукомысленник с изменившимся ликом глядел, не отрывая очей, как гибнет его творение.
— Ты почто, зелена медь, добрую работу кузнечную испортил?! — закричал вне себя рукомысленник. — Я ведь её для дела ковал, а не для забавы пустой! — продолжал он сердито. — Силушку в полезное дело вкладывать надобно, а не в глупое ломание нужных вещей!
От яростного напора Кряжа Сила лишь виновато заморгал очами.
— Воевода, чего это кузнец на меня накинулся, — молвил богатырь, когда они с Ольгом отъехали, — сам ведь загорелся свою подкову попробовать, сам принёс… а теперь… неловко как-то вышло…
— Да это он от обиды, надеялся, что его-то подкову ты не осилишь… Ладно, давай в Ладогу возвращаться, а то что-то вьюжить стало, а нам ещё в ратный стан попасть нынче надобно. — Воевода привязал коня к саням на длинный повод, а сам уселся рядом на сено. — А скажи, Сила, откуда у тебя мощь богатырская, ведь статью только среди нурман выделяешься, а среди руси и незаметен, так, росту среднего, почитай, однако пару самых здоровых мужей одной шуйцей смести можешь, — спросил Ольг.
— Поначалу я был таким же, как все, — отвечал Сила, вглядываясь в снежную круговерть, чтоб случайно не потерять дороги. — Только на четырнадцатое лето моей жизни, аккурат за седмицу до праздника Великодня случилась беда, мама моя умерла. Любил я её очень, и стало мне худо. Близится праздник пресветлый, когда день с ночью равняется, а потом одолевает — таки Яро-бог тьму зимнюю, а мне и жить-то не хочется. Не пойти на праздник — людей обидеть, а пойти и того хуже. Пошёл я к волхву нашему за советом. А волхв поглядел на меня внимательно так и речёт:
— Не в смерти матери дело, тебе, Мирослав, тесно стало имя твоё нынешнее.
— Как так тесно, это же не рубаха или сапоги? — изумился я столь чудному разговору.
— Бывает и так, — ведёт беседу дальше волхв, — что велико оно для человека становится, тогда тоже имя менять приходится…
Я же про себя ничего уразуметь не могу, имя-то мне в самый раз, все о том рекут. Я хоть и прошёл обучение воинское, клятву Перунову принял и не хуже других в строю рубился, а не шибко любил спором да кулаками дела решать, всё больше миром. Да волхв на своём стоит:
— Пойдёшь в ночь на Великдень на капище старинное, что на Белой скале у берега, и послушаешь, как море, земля и свод небесный беседуют меж собой, и то, что они тебе скажут, навеки с тобой останется. Ступай!
Пошёл я с закатом на древнее капище, Солнце-Сурью в его чертоги ночные проводил и уселся на скале слушать, как волхв повелел. А капище-то поставили ещё пращуры наши, что к морю Варяжскому привели наш род с Дуная синего. И приносились тут издавна жертвы Триглаву Великому — Сварогу, Перуну и Свентовиду. И ходили сюда только жрецы, а не простые люди. Зачем же старый волхв меня сюда послал? Даже боязно как-то стало. Что ж, сижу, слушаю, как море могучее о скалу твёрдую бьётся, аж содрогается от тех ударов камень, что подо мной. Тут сварга небесная звёздами чистыми раскрылась и глядит на меня, да так пристально, аж оторопь берёт, вспоминать начинаешь поневоле, что и когда не по прави свершил или хотя бы помыслил. Потом прилёг я на камень и стал слушать богатырскую песнь морских волн, и как та песня дрожью земною на голос моря откликается, а небо звёздное сверху тем чудным песнопением управляет. Долго глядел и слушал, пока вдруг почуял, как будто разделяюсь я: частью в небесную сваргу бесконечную улетаю всё выше, и от огромности той дух захватило так, что я не то дышать перестал, не то час земной для меня остановился. А другая часть меня в то же время с морем и скалой, на которой лежал, воедино срослась. Да так крепко, что и сам я стал частью музыки земли и моря. И вдруг почуял я, как из земли к небу пошли потоки незнаемые, и столь сильны они, что страшно стало, как бы, проходя сквозь меня, не разорвали они тело моё на клочки. Вспомнил я тогда легенду рода нашего про богатыря, прах которого, как рекут старики, именно с этой скалы был развеян над морем. Богатырь тот умер после лютой битвы с ворогом от страшных ран. Но рёк он перед кончиной, что Сила его с ним не умрёт, потому как не его это Сила, а самой земли-матери и отца-окияна, а потому бессмертна, пока они существуют. И ещё рёк тот богатырь, что всякий раз, как придут тяжкие часы и будет переживать род наш опасность смертную, передадут отец с матерью Силу ту новому богатырю. И чуял я, как крутит, рвёт моё тело та сила немереная, а мозг разрывается от ощущения огромности мира, что враз предстала мне в эту ночь. Не мог я более терпеть охватившей меня боли и жара, с великим трудом встал со своего каменного ложа, — каждый сустав, каждая жилочка моя так болели и саднили, что я хотел лишь одного — остудить тело холодной водой. Спустившись в темноте к морю, омыл дрожащими руками чело по-весеннему студёной водой, но жар не проходил. Тогда я разделся и окунулся весь в ледяную волну. Измученному телу стало чуть легче, и я поплыл. С каждым гребком уменьшалась боль, но тут, обернувшись, я испугался не на шутку: кругом только студёные волны и чернота ночи, где берег, в какой стороне? Я задёргался, стал грести чаще, тело стало быстро замерзать, и я подумал, что теряю последние силы. Вдруг слышу как бы весёлый смешок и голоса, вроде девичьи, только тонкие больно, и эхом над водою разносятся.