узнать.
Передо мной поднимались горы, поросшие темными соснами. У их подножья виднелись дома, которых в мое время не было. Дорога, переходя в тропу, терялась в их гуще, высокая трава по бокам от нее качалась под ветром, как мачты в гавани.
Не могу передать, как угнетала меня эта пропадающая дорога. Если б новые поселенцы выровняли прежнюю тропинку, засыпали песком и щебенкой, замостили камнем – дело другое, но здесь явно никто месяцами не ходил и не ездил, ни раб, ни министр. Между тем для детей, народившихся после меня, эта деревня и этот луг наверняка были целым миром, а тропинка – единственной связующей нитью между тем и другим.
Я не узнавал это поле. Оно никак не могло быть тем, что осталось у меня в памяти.
Но если это оно, то за тем пригорком слева должна пролегать большая дорога с севера на юг, по которой движутся всадники, возчики, пешеходы и караваны между Элламоном и Колхари. С которой вскоре должен свернуть мой собственный караван, чтобы разбить здесь церемониальный шатер. Что я буду делать, если увижу с пригорка лишь море травы? Если окажется, что память так жестоко мне изменила?
Но нет. Королевская дорога, Путь Дракона, нашлась там, где ей надлежало. На радостях я поворачивал коня то туда, то сюда. Если позабыть про эту нелепую деревушку, луг станет тем самым местом, где я много лет назад обрел самого себя.
Привязав коня к дереву и посмотрев вверх по склону, я понял, что стою как раз там, где стоял с другими рабами напротив высокого господина. С тех пор я свел знакомство с многими родичами госпожи Эзуллы и знал, что за Анурона она так и не вышла. А года два назад я обедал за одним столом с графом Жью-Форси. Он раздобрел с тех пор, и голова у него поседела, но прежнее прозвище, Жаба, так при нем и осталось. Я не стал поминать о нашем былом знакомстве.
Я старался не замечать ни дороги, ни деревни, торчавшей как прыщ у подножья Фальт. Вместо этого я пытался представить, где стояла карета Ветерка, где Анурон бился с Вархом, где был большой шатер, – и усмехался, ожидая прибытия собственных повозок, разбивки собственного шатра, полного забвения прошлого.
«А не сходить ли мне в эту деревню», – внезапно подумал я. Моя тоска по былому просто смешна. Я шел по дороге, ведущей, похоже, к палатке, где господин нагишом примерял ошейник, а после к спящему Варху. От подобных воспоминаний сводит живот, сжимается горло, и за всеми зеркалами ждет пустота. Идти было долго, но я говорил себе: «Ты прибыл сюда как победитель в великой битве, это твой праздник…»
В тот миг я снова увидел перед собой лицо своего врага, могущественного министра, ныне усопшего, но тогда пребывавшего в Колхари рядом с импартрицей. Человека, по чьему повелению я оказался здесь. На миг он, словно призрак или бог здешних мест, принял облик того высокого господина. Знал ли кто-то из них муки, которым подвергала меня моя память? Мог ли намеренно двинуть меня сюда, как фигуру на игральной доске, чтобы я испытал как раз эти муки? Но нелепость этой мысли освободила меня сразу от них обоих. Меня ждал заслуженный праздник, и я, чтобы насладиться им в полной мере, не должен был больше думать о прошлом.
У первой же глинобитной хижины на меня уставилась женщина. Знала ли она, кто я?
Я повернулся и пошел обратно на поле, с которым, так сказать, был лучше знаком.
Почти уже перейдя его и подходя к своему коню, я увидел на дороге четырех пеших.
Впереди шла моя старая варварка в бурой рубахе и железном ошейнике, за ней трое мужчин. Один пожилой, в такой же бурой рубахе и тоже в ошейнике – должно быть, раб-старожил, о котором она говорила. Второй молодой, крепко сбитый, в ошейнике и кожаной повязке на бедрах. Он шел с открытым ртом, где недоставало зубов.
Я не говорил тебе, Удрог, что у Намука была такая же привычка – разевать рот? На миг я принял этого молодого раба за Намука, которого вели ко мне старик со старухой. Иллюзия была столь сильна, что я замахал рукой и поспешил ему навстречу, ухмыляясь как недоумок, но тут же подумал: да нет же, Намук – не молодой раб, а старый! Старуха скрывала это, чтобы приятно меня удивить. Потом я, конечно, опомнился и почувствовал себя полным ослом. Старуха сказала, что старик пробыл здесь двадцать лет, – значит, он пришел сюда через шесть лет после меня. Он улыбался, показывая длинные желтые зубы, я пытался улыбаться в ответ.
Старая рабыня тем временем поведала, что старика зовут Мирмид, молодого – Фейев, а ее – Хар-Ортрин. Фейев явно был туповат, но обладал красивыми светлыми глазами в обрамлении темных ресниц. Третий мужчина, без ошейника, в кожаной набедренной повязке, как и Фейев (и не менее грязный), стоял в стороне. Я с удивлением понял, что это стражник.
«А я буду Ириг, мой господин, – представился он, ударив себя в лоб кулаком. – Вольный слуга императрицы, великодушной владычицы нашей!»
Мне и теперь мерещилось, что Фейев – это Намук, а Ириг – вылитый стражник, который когда-то вел нас сюда, хотя тот мне плохо запомнился.
В честь грядущей церемонии и грядущей свободы сегодня они не работали.
«Надеюсь, вы не против, что я привела их, мой господин, – сказала Хар-Ортрин. – Вы такой добрый для великого человека, да и сюда приехали ради нас, и с Мирмидом хотели поговорить – он ведь здесь дольше моего. А парню полезно будет послушать про место, из которого он завтра уйдет навсегда».
«Вот и славно. – Я с улыбкой показал на поваленное дерево, поперек которого лежало другое, срубленное. – Сядем и потолкуем».
Мы сели. Начиналось все хорошо.
«Хар-Ортрин сказала, что показывала вам, где был ваш бывший барак, но он был вовсе не там! – сказал Мирмид. – Он стоял по другую сторону от казармы, где раньше жили стражники, а теперь мы живем – и сгорел за год до того, как сюда пришел я. Страшенный, говорят, был пожар! Никто не знал толком, сколько рабов в нем погибло. Уцелевшие втихомолку шептались, что это недосмотр был, а то и поджог.
Поджарились люди заживо в набитом соломой хлеву. Когда меня пригнали сюда, развалины еще не совсем заросли. А там, на склоне, где показывала она, были временные постройки, поставленные после пожара – в одной из них я

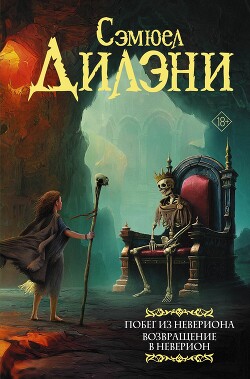


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)