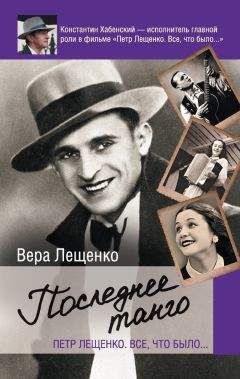…За окнами послышался конский топот, и через несколько мгновений воздух сотрясла громкая замысловатая брань. Бальи досадливо крякнул. Явился барон Роже де Боле, чьи владения примыкали к Вокулеру, знатностью и древностью рода превосходивший всех окрестных дворян.
Правда, от многих поколений высокородных предков, сколь храбрых, столь и расточительных и недалеких, ему досталось не очень много не самой лучшей земли и обветшалый замок. Остались так же и долги – единственное, что нынешний барон приумножил. Наделенный в полной мере фамильной глупостью семейства де Боле, Роже, однако, был способным командиром, что доказывал не раз; а его дружина, состоявшая из отчаянных рубак, готовых в огонь и воду за своим господином, не знала равных себе. Именно поэтому бальи и сделал его своей правой рукой. Вернее сказать, сам барон сделал себя ей, прибыв третьего дня со своими людьми в Вокулер и заявив, что становится под начало бальи, желая помочь в истреблении поганой черни. Правда, пока что де Камдье не имел случая испытать, каков Роже де Боле в деле. Зато нарочитая грубость и высокомерная фамильярность барона по отношению к нему – простому, нетитулованному дворянину, даже не рыцарю, весьма раздражала бальи.
Гремя волочившимся по ступеням мечом, в комнату ввалился барон. Здоровенный, тучный, почти квадратный, он напоминал дикого кабана на двух ногах.
– Удача, дружище! – рявкнул он с порога. – Удача, клянусь ляжками святой Клариссы! К моему замку посмел приблизиться отряд в полсотни, без малого, этих свиней. Половину мы перерезали сразу, а оставшихся развесили на деревьях, как свинячьи туши. – Ха-ха-ха!! – барону, должно быть, сравнение это казалось необыкновенно остроумным и веселым.
– Что, всех? – спросил, не скрывая неудовольствия де Камдье.
– Как можно, дружище, помню я твою просьбу, – все приказы барон упорно именовал просьбами. – Привез я тебе ихнего вожака, живого и невредимого; выгляни в окно – увидишь.
Глянув во двор, де Камдье увидел, как люди барона снимают с седла человека, увязанного, как тюк с овсом.
– Скрутили его, как барашка, хоть сразу на вертел сажай!
«Вот и первая победа», – подумал про себя бальи. Особой радости он почему-то не почувствовал.
Однако, представлялся удобный случай выяснить все об этом бунте от одного из тех, кто стоял во главе его. Пленного следовало немедленно допросить. И, кстати, нужно было послать за аббатом Жоржем: как-никак здесь замешана ересь… Внезапно Антуан де Камдье кое о чем вспомнил, и к тому моменту, как запыхавшийся настоятель переступил порог его дома, в его голове уже созрел некий план…
* * *
…Солнце пригревало почти по-летнему. Радостно зеленела распустившаяся листва деревьев, радостно сияло светлое голубое небо, радостно прыгала по недавно проклюнувшейся изумрудной травке, весело чирикая, серенькая птичка. Впервые за многие годы комендант обратил внимание на красоту окружающего его мира. Сколько ему еще осталось любоваться ею? Вдыхать свежий весенний воздух, ступать по остро пахнущей, мягкой земле? Неужели он обречен совсем скоро покинуть этот мир, такой прекрасный в своем пробуждении к новой жизни?
Он тяжело поднялся со скамьи у входа в кордегардию. Неподалеку несколько солдат и горожан, упираясь спиной и грудью в веревочные лямки, втаскивали на стену бочку со смолой.
Город готовился к обороне. В его стенах он прожил последние десять лет. Тут его дом – первый настоящий дом за многие годы. На городском кладбище похоронены два его сына, умершие младенцами. Отсюда он уходил в походы, и его он защищал в последнюю войну.
Пять лет назад, во время осады, вот на этой самой стене, у вон того выщербленного зубца, лезущий на стену немец рассек ему протазаном щеку.
А в день третьего штурма, когда в перерыве между атаками Гийом спустился со стены, к нему подбежала Софи, держа на руках младшую дочку. Хелен, с помертвевшим лицом, шепча молитвы, стояла рядом, вцепившись обеими руками в мать. Он сначала не понял что она кричит ему, а когда расслышал, что она просит убить ее и детей, только чтобы живыми не попасть в руки озверевших ландскнехтов, то даже не нашел в себе сил выругаться…
Из своих почти сорока лет Ивер, двадцать два отдал солдатской службе. Он участвовал во взятии шестнадцати городов и обороне четырнадцати. Он был на шести больших войнах, не считая мелких пограничных стычек. Он уже давно потерял счет боям, в которых ему случалось сражаться (он и вправду не смог бы точно вспомнить их число). Давно уже, кажется, должен был свыкнуться, сжиться с мыслью о смерти; да он и сам думал что так и есть. Почти уж не осталось никого из тех, кто начинал с ним службу под орифламмой.[8]
А сколько раз он мог расстаться с жизнью, сколько раз смерть уже заглядывала ему в лицо? Костлявая была знакома ему во всех видах: от рыцарской пики и алебарды пехотинца, от каменного ядра бомбарды, от расплавленного свинца, льющегося со стен, от стрелы и меча, от голода в осажденных городах. Он, вроде бы, должен уже давно разучиться бояться, а вот поди ж ты…
Выходит, судьба хранила его все эти годы, чтоб он погиб, сражаясь с какими-то бунтовщиками, о которых через год и думать забудут?? Нет, Гийом Ивер не был трусом. Но, Господи, как же ему хотелось жить! Он, наверное, только сейчас впервые, быть может, за всю свою жизнь, по настоящему стал понимать, как прекрасен окружающий его мир, удивительной красоты которого он не видел доселе. Почему же ему суждено умереть именно сейчас, этой радостной молодой весной? Весной, когда все зовет к жизни! Такая глухая безнадежность, такая обессиливающая тоска глодала его душу с того самого дня, когда он получил неведомо от кого – от кого именно, задумываться не хотелось – то страшное предупреждение.
Помниться, бабка говорила, что когда придет смертельная опасность, он почует, откуда исходит угроза, и поймет как ее избежать… Так и было дважды в его жизни.
Но сейчас опасность была со всех сторон, и непонятно было, что делать и где искать пути к спасению. По всему выходило, что и впрямь он доживает последние дни. Бежать из города, стать презренным дезертиром, обречь себя на участь изгоя, а жену и детей на позор? Нет, это не для него. Да и потом – ведь и это не обещает спасения.
Сначала комендант пытался хоть как-то отвлечься от мысли о неизбежном конце, уходя с головой в дела. Но это оказалось бесполезно: стоило лишь на миг оторваться, как проклятая была уже тут как тут.
Так, должно быть, чувствует себя приговоренный, из окна своей тюрьмы взирающий на возводимый для него эшафот. Так искусный врач обнаруживает у себя несомненные признаки неизлечимой болезни. Так осознает неизбежный конец старый, опытный воин, получивший смертельную рану.