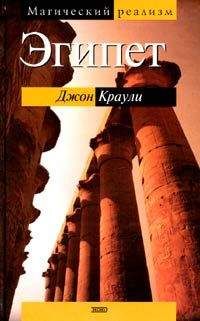мира. Застал ее за купанием и влюбился. Только вот он не знал, что она такое. Думал, просто пригожая девица. Он украл у нее плащ, а без плаща она не могла сбежать или сменить обличье. Так он ее и заполучил, а она сказала ему, что, кабы не плащ, не видать бы ему ее как своих ушей. После того она родила ему сына и ушла к себе, в холм Нокайни, а на прощание сказала моему предку: если сын ему хоть немного дорог, то пусть никогда не удивляется, что бы тот ни натворил.
– Это был отец вашего отца? – спросил Хью.
Он отпил глоток вина и почувствовал, как сжимавшая его невидимая сеть ослабла, как сила, давившая на него, отпрянула, словно в страхе.
– О нет, то было куда как раньше, – покачал головой граф. – Давно, очень давно. Но штука вот в чем: сын этот стал великим прыгуном. Однажды на пиру его попросили показать свое искусство. Тут он как прыгнул… – граф взмахнул своей белой рукой, показывая, как было дело, – и прямиком в бутылку, что стояла перед ним столе. А потом таким же манером взял и выпрыгнул обратно.
Десмонд тяжело дышал, и с каждым вдохом его голос звучал все выше и тоньше.
– Но вот в чем штука, – повторил он. – Отец его увидел это и сказал, что и представить себе не мог, будто его сын на такое способен! Одним словом, удивился. И, ясное дело, тут же потерял сына навсегда, как и предупреждала его мать. Сын повернулся и вышел на двор, а все, кто был на пиру, пошли за ним – посмотреть, что он будет делать. Он вышел за ворота и спустился к реке. До тех пор он был человек человеком, но только коснулся ногой воды, как тотчас превратился в серого гуся и уплыл невесть куда. И больше уж не вернулся.
Граф поднял бутылку, словно собираясь налить еще, но передумал и поставил обратно.
– Я не такой хороший прыгун, – сказал он. – Запрыгнуть в бутылку я еще могу. Но вот выскочить обратно – это мне не под силу.
Хью еще раньше приметил двоих, сидевших на скамеечке у огня. Лишь только граф закончил свой рассказ, они вскочили разом, как по сигналу. Казалось, это близнецы или вообще один человек, раздвоившийся каким-то чудом: одинаковые плащи, одинаковые корявые посохи. Ни говоря ни слова, они встали по обе стороны от графа, а тот расставил руки, чтобы его подхватили под мышки. Отработанным движением эти двое вздернули графа на ноги и закутали в зимний плащ, все это время висевший на спинке его стула. Затем, тяжело опираясь на помощников, граф двинулся к выходу – или, точнее сказать, его понесли, а он только делал вид, что переставляет ноги.
Хью поднялся, отступил на шаг и низко склонил голову, но Десмонд потянул мальчика на себя и поднес губы чуть ли не вплотную к уху. «Она всегда меня видит», – прошептал он. Затем пальцы его разжались, и помощники куда-то поволокли его по улице, раскисшей в грязь, – то ли домой, на боковую, то ли в очередной кабак.
Слуга Сент-Леджера встал со скамьи, снял с крючка свой фонарь, горевший уже совсем тускло, и двинулся обратно той же дорогой, а Хью последовал за ним.
Ночевать они остались у сэра Уорема; Хью и Филипу дали одну кровать на двоих. Посреди ночи Хью проснулся и увидел прямо перед собой лицо королевы. Оно висело в темноте светлым пятном, мало-помалу теряя очертания, растворяясь в сияющей пустоте. «Она всегда меня видит». Хью лежал, не шевелясь, между сном и явью, и смотрел в окно – на черную гладь реки, по которой приплыл сюда накануне. Затем вода всколыхнулась и пошла рябью под гребками сильных птичьих лап: к дальнему берегу, где не было ни домов, ни причалов, а только каменная стенка набережной и заросли тростника, плыл серый гусь. Когда до берега оставалось уже немного, гусь взмахнул могучими крыльями и, снявшись прямо с воды, в облаке брызг устремился в ночное небо.
Прошло семь лет, прежде чем Хью О’Нилу разрешили вернуться в Ольстер. Тихий мальчик вырос и превратился в тихого юношу, основательного и осторожного. За все это время он считаные разы говорил по-ирландски или хотя бы слышал ирландскую речь; он звучала лишь в его памяти. Он еще не стал ни верховным О’Нилом, ни графом Тироном, но не стал и никем другим. Пока они плыли через море, сэр Генри Сидней (по приказу королевы вновь принявший должность лорда-наместника и теперь возвращавшийся в Ирландию) сообщил Хью, что Брайана, его единокровного брата, убили и что убийц наверняка подослал Шейн. Двоюродный дядя Хью, Турлох Линьях, был теперь танистом – вероятным наследником Шейна, и англичане к нему благоволили, хотя какая из того польза выйдет Турлоху, неизвестно, потому что англичане никогда не обещали ничего заранее. Может, только титул без денег, может – богатство и власть, а может, и вовсе пшик. По английской системе пэрства сам Хью был всего лишь бароном Данганноном. И все, чего он хотел для себя, – оставаться под рукой Ее Величества, щедрой и справедливой, простертой так далеко и в то же время держащей его так близко.
На землю Ирландии он снова ступил с английскими солдатами за спиной и с английской подвеской на шее – загадочным устройством, всех возможностей которого он еще не знал. Одетый, точь-в-точь как одевались в том году и в том сезоне все молодые англичане, стремящиеся чего-то добиться в жизни, он въехал в Дублин – и никто не вышел приветствовать его, никто не встретил радостными криками. Кто же был на его стороне, на кого он мог рассчитывать? О’Хейганы – преданные, но бедные. О’Доннелы из Тирконнела, сыновья свирепой шотландки по прозвищу «Темная Дева», Инин Дув, – эти то дружили с О’Нилами, то враждовали, причем не реже. И англичане: само собой, Генри Сидней да еще люди королевы, Берли и Уолсингем, которые пожали Хью руку на прощание и улыбнулись, – наверняка они желали ему добра. Они видели, как Шейн О’Нил пресмыкался перед королевой; они знали отца Шейна, Конна Бакаха О’Нила; они обратили внимание на белое перо, которое Хью всегда носил воткнутым в шляпу. Его покровитель при дворе, граф Лестер, шепнул ему: «Что насчет графского титула? Все еще не решено?» У этих людей Хью научился не только придворной речи: он узнал немало и об их стране, и о своей