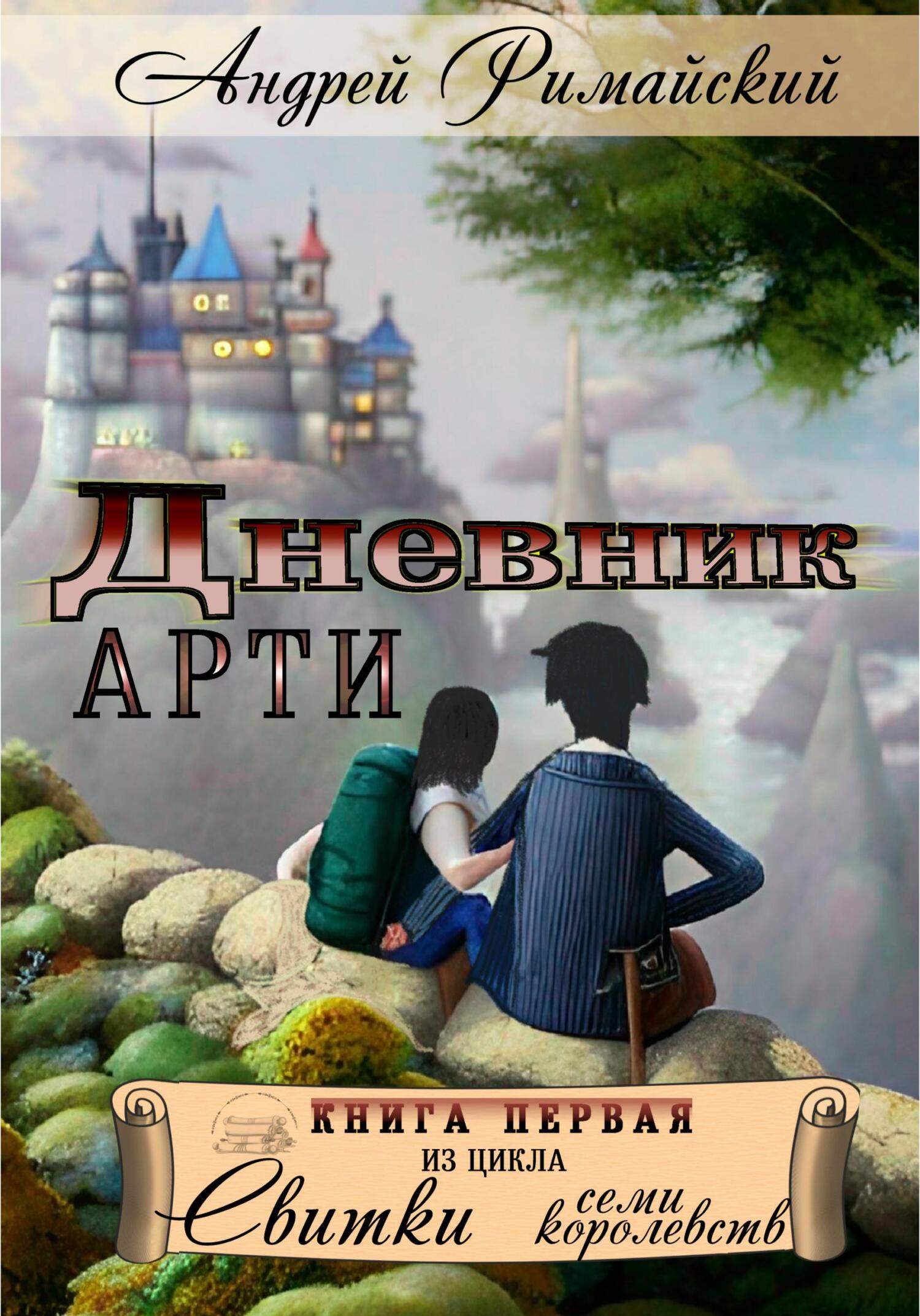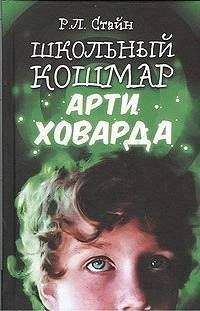раз твердили мне, как люто ты меня ненавидишь, как жаждешь моей смерти, как ждешь, наконец, часа, когда я покину эту грешную юдоль! Они клали мне доклад за докладом на стол. От самых мастистых шпионов королевства! Где черным по белому лежали твои слова как гвоздь, вбитые в крышку гроба, звучащие как приговор: «Смерть врагу народа!» Разве не этим лозунгом вы начинаете и заканчиваете свои собрания?
— Как тебе могли говорить такие кощунственные слова, брат? Как у них только язык развязался лгать так нагло! Как их руки не сковал страх посмертного наказания? Или они думают купить себе вечную жизнь? Да таким негодяям как пастор этот — нет веры! Их мантия, их украшения, их речи — что кожа у змеи, блестит только на солнце! Но что это за ложный блеск, и как он мог тебя обмануть? Пробрался бы, не знаю как… но верю — захоти ты разобраться — горы бы свернул на пути, но пробрался на наши собрания! Там бы ты услышал, какие лозунги подчас звучат у нас! Там бы стыд сковал твое сердце, если у тебя осталась хоть крупица совести и человечности! Ты бы услышал все те жуткие донесения, что ежедневно поступают ко мне: как бесчинствуют твои солдаты, как крадут они последнее, что можно украсть у беззащитного гражданина, как насилуют они дочерей и убивают матерей! «Есть ли предел человеческой жестокости?» — спрашиваю я себя тогда и невольно, сама по себе, как легкий незваный собеседник, закрадывается мысль: а не губим ли мы сами себя, не губим ли в себе человека, если опускаемся до уровня зверей, причем в сто крат хуже их по коварству и лукавству — те, добыв себе пищу на сегодняшний день, не станут загрызать всё стадо, запасаясь едой на годы вперед! И это мне не раз и не два передавали такие доклады, где читались твои слова «смерть Стефано, предателю короля!»
— Да, — понурив голову, согласился Бьянко — многое правда, всё так: солдаты, попробовав крови, обезумев, творят страшное, их командиры только и видят, как нажить себе добра, а потому закрывают глаза на изуверства подопечных… Да, лозунги кричат, в основном, наши крикуны, горлопаны, но не я, брат, не я. Не кричал я вслед за ними, что готов тебя убить… довольно и той сцены, что висит над нами… будем же мириться, остановим кровопролитие, которому нет конца, которое во что бы то ни стало надо…
Бьнко так и не смог окончить свою речь, замерев, как камень, на месте. Леденяще зазвенела громадная люстра в центре зала, когда пуля со свистом прошла сквозь нее, угодив в колонну на верхнем этаже; раздались крики «это западня», когда со звоном посыпались осколки литиалина — цветного стекла, внешне напоминавшего драгоценные камни: десятки, сотни золотых, изумрудных, бирюзовых песчинок посыпались на пол, как печальные свидетельства разбитой мечты о воссоединении, как угасающий гимн утерянного счастья.
Тут же следом посыпались выстрелы наугад с обеих сторон. В такой кутерьме, что наступила, никто особо не целился: много ли ума нужно, чтобы палить без разбора в людей? А уж когда все нервы напряжены, сердце бешено колотится, а в голове роятся сотни жгучих мыслей — где найти то хладнокровие, чтобы разобраться во всём?
Люди падали, как стебли тростника, срезанные под корень острой секирой, едва успевая всплеснуть листьями-руками. Безумие царило в зале. Не минула горькая участь и братьев: Стефано и Бьянко, едва ли не среди первых, рухнули, в объятья друг другу, сраженные наповал пулями с противоположных краёв: что ж удивительного, если каждый из них мог помериться числом ненавистников? Всегда больше всего ненавидят или тех, кто сияет, неся свет в мир, или тех, кто жжет огнем, не чистым, а поджигающим вся и всё. И в том, и в другом случае это не заденет какого-нибудь Мацуко из квартала ремесленной бедноты, которому нет дела ни до чего, кроме своего брюха, набитого любой сытной едой, да в котором плещется зелье дурмана…
Последние взгляды братьев сверкнули под застилающим туманом. Они наконец увидели друг друга. Одна мысль скользнула в угасающих взорах: «как глупо и напрасно всё вышло, прости меня!»
Чезаре, с чужой кровью на рукаве — пока добирался до выхода, он упал на чьё-то бездыханное тело, — юркнул в полутёмный коридор, отпер решётчатую дверь без замка, ещё одну массивную дубовую, и оказался на заднем дворике, который раньше служил для получения припасов: туда-сюда сновали слуги, грузчики, управляющие, разгружались набитые битком телеги со всевозможной снедью, бочками вина, тканями, мебелью… Вдоль стены замка шла пешеходная аллейка, обсаженная с внешней стороны липами. Там, где аллейка заворачивала к подсобным помещениям, стояли две тени у раскидистой липы. Вечерние сумерки не давали издали разглядеть их лица. Впрочем, по наряду одного из них, Чезаре мигом узнал пастора Герберта — его чёрную сутану с длинными рукавами и стоячим воротничком нельзя было не узнать. Чезаре, запыхавшись, хромал потихоньку — хоть левое колено и ныло, но облегчение разлилось по всему телу, появились силы, какие приливают обычно при долгом спуске с горы к знакомым краям.
— Пастор! — радостно выплеснул Чезаре.
— Тише, мой дорогой, — зацыкал на него проповедник, — зачем нам привлекать к себе лишнее внимание?
— Да, вы правы! Это нам совсем ни к чему… А, командир, это вы! — узнав спутника пастора, Чезаре поклонился дюжему мужчине с широкими плечами.
— Солдат! Ты доблестно выполнил свою задачу, — похвалил командир, — и заслужил награду.
— Как и было обещано, — вторил пастор, — но расскажи, было не просто?
— Да, — Чезаре смахнул со лба пот, обильно кативший струями, — у меня сердце так бешено никогда не колотилось; не знаю, как устоял на ногах. Всё ждал сигнала с той стороны… а его всё не было! Стефано с Бьянко уже едва не обнимались! Они бы дальше пошли в переговорную вместе с генералами, и всё было на грани срыва! Как так могло получиться, пастор? Ведь если бы не вышло, и никто не шелохнулся? Какая участь ждала меня? Четвертование? Дыба?
— Ну, ну, не стоит рисовать таких жестокостей.
— А где же тогда был тот молодчина в красной кепи, как вы говорили? Обещали же, что всё пройдет гладко? А в итоге что? Как ни всматривался вдаль, а его было не видать!
— Сдрейфил наш молодчина, — укоризненно посмотрел пастор на командира, стоявшего боком к Чезаре. — В самую последнюю минуту, говорят, сбежал из дворца… Недалеко, правда. Но ты нас откровенно выручил, Чезаре, а мы ничего не забываем.
Чезаре довольно похлопал себя по