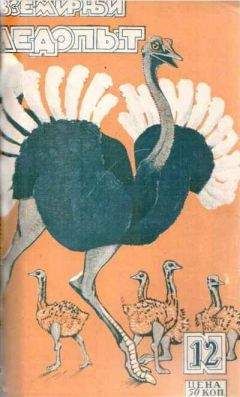Одно время Конан носился с идеей создания ударных частей Аквилонской армии из своих соплеменников и жителей Нордхейма — под Тарантией был развернут огромный лагерь, но гигантские средства ушли, словно в песок. Король натолкнулся на сильнейшее сопротивление. Верный Троцеро, даже он, не говоря о целой клике родовитых пуатенцев и иных аристократов, традиционно презиравших, и одновременно боявшихся северных варваров, встали на дыбы.
Честь аквилонского рыцарства была задета, и это едва не привело к отдельным восстаниям и даже попыткам обособления некоторых баронских земель от Аквилонской Короны, каковое отложение не преминула радостно поддержать немедийская сторона.
Боссонские и Гандерландские земли — верная опора короля против родовой аристократии — просто бурлили: хайборийские жители гор и лесов, извечные враги северян, впервые приняли сторону нобилей и жителей центральных провинций. Когда общее недовольство разделил и Конн, король отступил.
Кроме того, на пути нововведений встали и клановые препоны — ни клятвенное обещание Конана навсегда отвадить хайборийцев от посягательств на вольные северные земли, ни щедрые дары старейшинам и главам разрозненных кланов не дали желаемого.
Юные воины Севера не спешили мощным потоком влиться в сверкающие ряды армии Золотого Льва Аквилонии. Приходили, прослышав о личной отваге Конана, но приходили поодиночке, втайне от своих вождей из ледяных пустошей, фьордов и северных гор. Наконец, сыграло свою роль и вечное неприятие друг друга нордхеймцами и киммерийцами: сражаться на далеком юге за славного вождя — это еще куда ни шло, и пусть на стяге над головой реет какой-то там Золотой Лев, повыше него есть Вечное Небо и Ледяные Чертоги с их Хозяином, но сражаться бок о бок с коварными соседями, почитающими злых демонов, созданных на погибель всему и вся? Нет.
Так что грандиозная затея провалилась, оставив после себя медленно порастающий травой лагерь, территорию которого потихоньку распахивали мирные поселяне, да личная охрана Конана — несколько десятков отчаянных головорезов, готовых пойти за своим легендарным королем хоть в пасть к Хресвельгу, Гарму, самой Хели или всему сонмищу чудищ северных сказаний.
Череда покушений на августейшую особу с созданием личной охраны прервалась: ни стигийские чернокнижники, ни немедийские шпионы не смогли найти общего языка с хмурыми детьми Крома и Имира. Золото, власть, магия — все эти слова были не то, что безразличны — просто неприемлемы для грубых, бесхитростных «эйнхериев». Кстати, когда Конан узнал, как себя называет его охрана, он поневоле призадумался.
И Нордхейм, и Киммерия, в остальном малосхожие, были объединены неким общим состоянием в восприятии бытия, недоступным просвещенным землям хайборийского мира, вольным и беззаботным степям гирканцев и погрязшей в магии Стигии. Север не жил, переходя от одного события к другому, подобно цивилизованным странам, не дремал в одури, подобно Вендии и загадочному Кхитаю. Север ждал. Он ждал Последней Битвы — дня, когда в пределы окружающей стылой действительности ворвется сам Хозяин Ледяных Чертогов. И хоть сказания о Кроме и Имире отличались друг от друга, но сходились в одном — высшее существо в День Последней Битвы именоваться будет Великим Охотником, Диким Охотником. Он пронесется по небу, топча хримтурсов и троллей, огненных змеев и прочую погань, веками несущую людям плачь и горе. И мир будет разрушен, чтобы быть созданным заново. Что там и как там будет дальше, дети Севера не знали — древние киммерийцы за давностью лет уже забыли эту часть священного предания, юные нордхеймцы — еще не придумали. Да и неважно это было, ибо все герои и воины, погибшие в бесчисленных войнах и сражениях нынешней и прошлых эпох, выйдут из Ледяных Чертогов, сядут на восьминогих крылатых коней и в свите Дикого Охотника пронесутся по гибнущему миру, чтобы погибнуть вместе с ним. Никто не сомневался, что большинство героев Нордхейма и Киммерии будут в этой свите, а имя им будет в День Последней Битвы — «эйнхерии». У каждого на седле — валькирия, на челе — ледяная корона, в руке — меч из холодного пламени.
Сам Конан покинул родной очаг, разоренный наемниками, в том возрасте, когда еще не задумываются над судьбами мира, так что он не успел пропитаться этим духом великого северного ожидания и сопричастности к перипетиям мироздания. Посему относился к мифам своей родины с почтением, но без трепета, слегка даже снисходительно. На своем веку он повидал стольких просвещенных служителей различных богов, властолюбивых жрецов, диких шаманов кровавых культов, воинствующих фанатиков неведомых религий и смиренных отшельников, живущих в мире и со всеми окружающими, и сами с собой, что здоровый цинизм стал его основной верой. И он почти не вспоминал оставшиеся где-то в холодном мареве детства сказания о грядущем разрушении мира. Хотя сам образ Дикого Охотника занимал его воображение какое-то время. Он даже велел оружейникам украсить изображениями Последней Битвы свои черные доспехи, а любимый некогда охотничий домик, место отдохновения Зенобии и Конна от дворцовой суеты, — тот весь был увешан изнутри гобеленами с «эйнхериями», валькириями и побиваемыми демонами. Но — не более того.
Конан спокойно относился к тому, что уже пару-тройку десятилетий стал почти что живой легендой. Правда, в собственном королевстве подобное отношение к владыке быстро сошло на нет, но среди кочевников степей, среди диких горских племен, на палубах пиратских кораблей и в непролазных джунглях, куда и носа не казали хайборийские путешественники, гремело, не умолкая, имя Амры, Конана-киммерийца. Равно как на Севере обитаемых земель имя Конана-варвара. И вот в день, когда был создан отряд личной охраны короля из украшенных шрамами варваров в рогатых шлемах, один вид которых внушил столице трепет, они назвали себя — «эйнхерии».
Конн, волей судеб выросший в Тарантии и воспитанный, как утонченный и просвещенный рыцарь, головорезов отца сторонился, набрав свою личную гвардию из блистательных Черных Драконов — отпрысков мелкопоместного, но славного аквилонского дворянства. Не раз и не два он просил отца, чтобы во время официальных церемоний и пышных празднеств в дверях тронной залы не маячили мрачные рогатые фигуры, пропахшие конским и человеческим потом, запахами кожи и минерального масла.
Конан, ворча, подобно старикам из тарантийских таверен, коротавшим вечера за бутылкой и сетованиями об упадке нравов молодежи, телохранителей своих в пиршественные залы старался не вводить. Однако не мог отказать себе в удовольствии и подшучивал над охраной сына с присущим одному ему диковатым мрачным юмором — то он, как будто, принимал разодетых в пух и прах, по немедийской моде, часовых за вешалки, и вешал на них плащ, то, «случайно» оступившись, заезжал плечом в облаченные черные камзолы спины, после чего бравый гвардеец, кувырнувшись в воздухе, приземлялся аккурат посреди уставленного тортами и фруктами стола, то пришибал телохранителя принца створкой тяжеленной дверью. Словом, повода для выяснений отношений с отпрыском оказывалось предостаточно. Но, как водится, нелады среди хозяев заставляют перелаиваться и псов: по всем столичным кабакам вспыхивали ссоры между телохранителями первых особ, редко кончавшиеся смертоубийством — но уж без порубанной мебели, битых кувшинов и подвернувшихся под горячую руку завсегдатаев не обходилось, ни одного праздника. В кулачных потасовках — «мужицких играх», по мнению родовитых Драконов, — перевес неизменно оказывался на стороне диких северян. В споре клинков явного преимущества у той или другой стороны не наблюдалось. Конан, закатывавший разудалые пиры по поводу мелких своих побед и впадавший в мрачное оцепенение после поражений в уличных сварах, был наслышан, что немалое число дворцовой челяди, от пажей до седых мажордомов, сколотили целое состояние, делая ставки и подбивая охранников на непотребства.