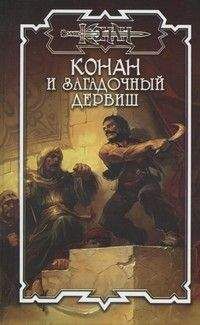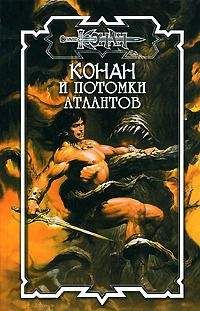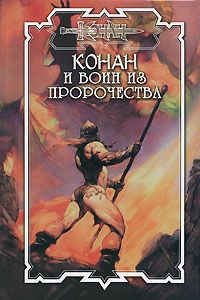Он несколько раз вдохнул и выдохнул, произнося молитвы богу Белу — покровителю всех воров. Никогда прежде почтенный Олдвин не обращался к Белу, но — лучше поздно, чем никогда! Воры, чьи нравы и обычаи Олдвин исследовал в родной Бритунии, уверяли его, что этот шемитский по происхождению бог всегда помогает.
— О великий Бел, я хочу взять немного сокровищ из этой коллекции, — вслух произнес Олдвин. — Я рассказываю тебе о своем плане для того,
чтобы ты помог мне следовать ему с твердокаменной несогбенностью. Я должен разбогатеть. Я хочу взять два ларца. Этого хватит, чтобы… — Он помолчал и поправился: — Нет, я хочу взять три ларца. Этого точно хватит…
Новая пауза. Олдвин снова поднял лампу и посветил себе. Бесконечные ряды сундуков тянулись сквозь стены, их содержимое, казалось, безмолвно взывало к Олдвину. Он почти физически ощущал, как давит на него собранное здесь богатство, и хотелось взвалить на себя как можно больше сладкого бремени.
— Погоди, погоди, — пробормотал Олдвин. — Есть ведь еще Конан, мой спутник… Погоди, Бел, я еще не определился окончательно… Не могу же я забрать себе три ларца, набитых драгоценностями, и совершенно не подумать о моем товарище? Нет, нет… Решено. Я беру шесть ларцов. Три мне и три киммерийцу. Или нет…
Он еще раз вздохнул. Пот стекал по его лицу ручьями, его трясло, как в лихорадке.
— Что со мной происходит? — прошептал Олдвин. — О чем я думаю, что говорю? Я нахожусь глубоко под землей, во дворце, затерянном среди пустыни и окруженном зыбучими песками… Даже если я заберу сейчас отсюда шесть или десять ларцов (да, десять было бы лучше всего!) — как я выберусь на поверхность? Как вернусь в цивилизованный мир? Боги, что мне делать?
Он закрыл лицо руками и заплакал, совершенно безутешный, окруженный морем сокровищ, которые, казалось, взирали на него с полным равнодушием к его душевным мукам.
* * *
— Я так долго ждала, — прошептал сладкий женский голос в ухо киммерийца. — Если бы ты знал, как одинока я здесь, в этом дворце! Я живу словно в заточении… Я, повелительница, чувствую себя пленницей!
Конан молча ласкал ее, ощущая тепло ее бархатистой кожи под тончайшими одеждами.
— Я пленница моего одиночества, — задыхаясь, говорила Гуайрэ. — Я королева, повелительница… Никто из моих воинов не смеет прикасаться ко мне! Я не дозволяю им этого. Они не имеют права даже смотреть мне в лицо. Когда я прихожу, они падают ниц и смотрят в землю… Но я — женщина, я — живая, я нуждаюсь в мужской любви. И ты, прекрасный, сильный чужак, — ты дашь мне то, без чего я умру…
Конан тихо засмеялся и привлек ее к своей широкой груди.
— Дорогая моя, ни одна женщина не уходила от меня разочарованной. И ни одна не получала отказа, если только не была злой и уродливой.
— Я не зла и не уродлива? — спросила Гуайрэ, совсем по-детски выпячивая губы. — Я ведь нравлюсь тебе?
— Да, — сказал Конан просто. — Ты красива и желанна.
— Идем.
Она схватила его за руку и потащила за собой. Он, наполовину забавляясь, последовал за ней. Только теперь Конан увидел, что королева вышла к нему босая. Ее узкие розовые пятки мелькали из-под белоснежного шелкового подола.
— Я не ношу обуви, — сказала Гуайрэ, как будто прочитав его мысли. — Быть босой — быть царственной. Я не страшусь обжечься о раскаленные пески моей пустыни. Обнаженная кожа — вот моя королевская обувь!
Как ни был Конан захвачен этим неожиданным приключением, он все же не забывал осматриваться по сторонам. Ровный золотой свет заливал комнату, ее потолок и стены украшала все та же знакомая резьба, и причудливая игра света и тени делала таинственные фигуры живыми.
Неожиданно киммерийцу показалось, что, хоть они с королевой и шли вперед очень быстро, почти бежали, на самом деле они оставались на одном и том же месте. Узоры не менялись, прежними были и другие детали, например, канделябры и ниши с вазами.
Желая проверить свою догадку, Конан обернулся, чтобы взглянуть на свечу, зажженную возле порога. Но он был разочарован: свеча действительно обнаружилась там, где помнил ее киммериец, возле хрустальной двери, — но теперь она находилась в невообразимой дали, словно бы отодвинувшаяся от него на десятки полетов стрелы. Ее трепетный огонек все же был хорошо различим — он превратился в крохотную, ослепительную красную точку.
Внезапно королева остановилась и хлопнула в ладоши. Конан едва не споткнулся о выросшее перед ними ложе.
Это была гигантская кровать с рамой из черного дерева. Из черного дерева были вырезаны и ножки кровати — четыре оскаленных рычащих льва с разметавшейся гривой. Каждая прядка львиной гривы была, тем не менее, тщательно причесана и заканчивалась человеческой кистью. Эти кисти жили собственной жизнью — они сплетались между собой пальцами, грозили друг другу и зрителю, растопыривались или сжимались в кулаки.
Но у Конана не было времени рассматривать чудесную резьбу более подробно. Гуайрэ увлекла его на ложе и накрыла своими золотыми волосами.
— Люби меня, прекрасный незнакомец! — прошептала она.
* * *
— Я не должен предаваться пустым мечтам, — говорил себе Олдвин. Он пытался успокоиться, слушая собственный голос, но происходило нечто обратное. Звук человеческого голоса отражался от стен, и казалось, будто из сундуков ему отзываются
тихим мелодичным пением драгоценные камни.
Олдвин зажал уши ладонями.
— Пока я здесь предаюсь мечтам о богатстве, Конана, быть может, пытают… — говорил он себе. — Я должен встать и вернуться в нашу комнату. Когда Конана туда вернут… если его вернут вообще… мы сможем поговорить. Конан, несомненно, придумает, как нам спастись самим и завладеть этими несчастными четырнадцатью ларцами… Да, по четырнадцать на брата, полагаю, будет в самый раз…
Он встал на четвереньки и из последних сил пополз к выходу из сокровищницы. Когда он подбирался к порогу, ему почудилось, будто кто-то смеется ему вслед.
* * *
Гуайрэ лежала рядом с киммерийцем, опершись на локоть, и играла черной прядью его волос.
— Ты похож на тех воинов, которых я создала для себя, — говорила она задумчиво. — Похож и не похож. Они все были разными, когда пришли ко мне. Знаешь об этом? Кто-то чернокожий, кто-то совсем бледный… Одних я покупала на рабских рынках, других выискивала заблудившимися в пустыне. Все они боготворят меня! А ведь я не богиня…
— Ты прекрасна, — невпопад сказал Конан. Он полностью отдался чувству блаженства.
— Тех, кто угодил мне больше, я делала золотоволосыми и нежными, — продолжала Гуайрэ. — Они прислуживают лично мне. Подают мне одежды, приносят благовония, умащают мою кожу, надевают на меня украшения… О, все они благоговеют передо