мою бдительность видимостью дружбы, а потом попытался убить! Хотел повозку мою угнать, будто бы ради своего дела! Это точно был он. Раньше я встретил его человека, и та – то есть тот – сказал мне, где его можно найти. Шрамы у него есть, это верно, но он не одноглазый – всего лишь бельмо на глазу. Еле я ноги унес. Обычно он без своих людей ни на шаг – они или рядом, или в лесу сидят и ждут его зова. Мне повезло, что на этот раз он решил пойти на разведку один. Он врал, конечно, что не один, но я его ложь разгадал. Полоснул его по лицу одним из клинков, что вожу в повозке, – как раз по здоровому глазу пришлось. Я не видел, ослеп ли он целиком – он сбежал. Я опрокинул его повозку, зарезал его осла, а поклажу даже не тронул. Там покрышка красивая была, кожаная, но я и ее не взял – такой уж я дуралей. Он за мной не стал гнаться – то ли из-за раны, то ли просто боялся».
«Смотри, как бы он после тебя не догнал, – говорил невидимый собеседник. – Знаю я этих душегубов с большой дороги…»
Ну, я же все-таки выбрался оттуда в темноте и в тумане, таком густом, что ни звезд, ни луны, а то и солнца не видно было. Казалось бы, человек, которого весь Неверион чтит (я знаю, потому что со многими говорил и сам чтил его раньше), казалось бы, такой человек должен достойно себя вести. Ты не ждешь, что он подкрадется к тебе в ночи и приставит нож тебе к горлу, как вор в колхарийском переулке…»
«А он что, так и сделал?»
«Нет, – отвечал наш контрабандист, снова оглядевшись по сторонам, – но непременно сделал бы, если б представился случай. Теперь, после встречи с ним, я знаю, каков он. Этот человек использует то, что дураки вроде меня в него верят. Я это знаю из первых рук. Мог ты себе представить, что Горжик Освободитель, всенародный герой – обыкновенный головорез? Я-то, глупец, думал, что он хочет избавить народ от страданий, а он попросту караулит на каждом перекрестке и…»
Контрабандист содрогнулся, глядя вперед так, будто там вдруг выросла каменная стена. Он и верно был дураком, слушая мудрецов и учителей Невериона. Правда – немеркнущий свет, говорят они? Правда – это мрак, куда страшно заходить одному и где таятся всевозможные ужасы.
Правда в том, что сам он – испуганный невежда, затерянный в безлунной туманной ночи.
Он заплакал, почти беззвучно, но дружественный голос в уме, не обращая на это внимания, отечески-ворчливо сказал: «Я слышал многих людей, не одобрявших Освободителя. Он, говорят они, думает только о себе, как и все остальные. Признайся, что в наши тяжкие и опасные времена предполагать такое только разумно».
Контрабандист отвечал сквозь слезы: «Теперь-то я понял, что он лжец, убийца и вор, ничем не лучше тебя или меня. Теперь я сужу о нем по себе».
«Нет, не стану я про это рассказывать, – решил он. – Никогда, никому».
Прежде всего, это глупо. Он высморкался и сплюнул. Всякий, кто хоть что-то знает про Освободителя, выдумщика сразу разоблачит. Он, конечно, дурак, но не настолько же.
Он ехал по темной дороге, продолжая рассказывать свою историю себе самому.
Два босоногих солдата тащили по неровному полу бревно. Длинный кряхтел, коренастый помалкивал. Обменявшись кивками и парой слов, они закинули свою ношу в широкий очаг – шире, чем они оба, если сложить их в длину.
Искры и дым поднялись столбом. Горжик, сидя за дощатым столом, поднял глаза от карты.
Солдаты отряхнули руки – один о волосатые ляжки, другой о гладкие, – отдали ему честь и вышли.
Коренастый был женщиной, варваркой.
Одно из потолочных стропил – год назад, а может и сто – сломалось, упершись одним концом в пол. Закопченная мозаика между шестью уцелевшими стропилами от этого нисколько не пострадала, а к косому теперь крепили факелы, вешали на него оружие и занавески – кстати, можно сказать, пришлось.
Один боец, стоя под факелом, осматривал свой меч – двойной, что ли?
«Нет, – подумал Горжик, – померещилось из-за игры пламени». Или из-за пива, которое он решил не пить, но все-таки выпил.
Нойед, сидя на другом конце стола в своем железном ошейнике, смотрел не в огонь, а на стену у очага.
– Я вижу сны… – сказала принцесса, покачиваясь на бревенчатой скамье. – Знали бы вы, что мне снится, одноглазая моя обезьянка, мой великий Освободитель. – Волосы у нее поредели так, что на солнце сквозь них сквозила кожа, одежда пообносилась. Она сидела близко к огню, и лицо ее блестело от пота, между тем как солдаты, чьи голоса и смех доносились до них, часто жаловались на сырость и холод. Ее сморщенная, со старческими пятнами рука потянулась к тяжелому кубку с усадебным сидром, крепким как водка – и промахнулась. – Мне снилось, что мы с тобой, Горжик, заблудились детьми в чертогах Высокого Орлиного Двора и ищем дорогу по хлебным крошкам, как голодные крестьянские дети в старинной сказке.
– У нас не было общего детства, моя принцесса, – усмехнулся краем рта Горжик. – И голодать вам не приходилось.
Она нашарила-таки кубок, поднесла к губам, выпила.
– Почем ты знаешь, Освободитель? Ты-то уж верно не голодал. Всем бы рабам такие мышцы, какими ты щеголял во дворце – поневоле задумаешься, правду ли рассказывают о рабстве. Нойед другое дело: на него глядя, всему поверишь.
Бревно, подброшенное в огонь, на поверку оказалось сырым – оно шипело и плевалось, будто коря сухие дрова за их смоляные слезы.
Горжик рассеянно вел пальцем по карте; намеченный им путь, когда он отвлекся, свернул куда-то не туда, как заблудший в тумане путник.
– Нойед, ты на что так уставился?
Тот вздрогнул.
– На камни, хозяин. Видишь эти камни у очага? Я все думаю…
– Он думает, размышляет, прикидывает, – сидр выплеснулся из кубка, – а я все больше грежу…
– Вон из того стыка все время ползет туман. Это сырость превращается в пар или он снаружи сочится?
– Спроси принцессу, это ее замок. – Голоса солдат стали громче. – Чего они не поделили на этот раз? Уж эти мне варвары, что мужчины, что женщины. Им бы заодно быть, а не кидаться друг на друга за каждую мелочь.
– Заодно, говоришь? Ах, мой Освободитель. Я потому лишь тебя и поддерживаю, что не обязана быть с тобой заодно. Да, я

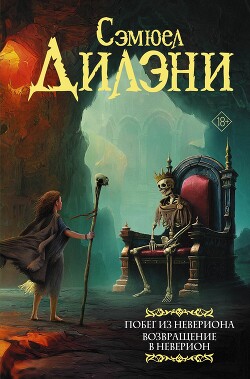


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)