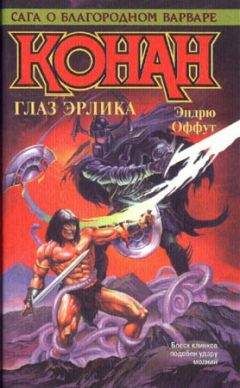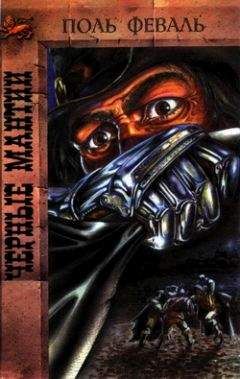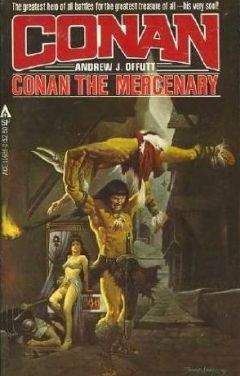«А утром я отправлюсь в Замбулу с распухшей головой, — подумал Конан. — Надеюсь, нам не придется напиваться до того, как мы поедим!»
Им не пришлось, хотя блюдо из приправленных пряностями овощей, сваренных в пиве, и куски, оторванные от широких, плоских лепешек маслянистого, начиненного чесноком хлеба из цельной пшеничной муки, не показались пиршеством человеку с холмов Киммерии, который ел мясо практически с рождения, — несмотря на всю аппетитность подсоленных яств Акби.
А вот жажду они вызвали. * * *
— Ты… ты так красива, — сказал Конан Испаране утром, даже не пытаясь скрыть свое изумление. Он открыл глаза, лежа на спине, и обнаружил, что она сидит рядом с ним.
Ее брови были со знанием дела выщипаны, чтобы придать им определенную форму, и смазаны жиром; ее губам, хоть они и были выкрашены в жутковатый черный цвет, как у женщин шанки, была с помощью косметики придана форма и блеск; глаза, обведенные углем, казались огромными, а с ресниц уголь прямотаки сыпался; ногти были накрашены лаком. Ее покрывали алые одежды шанки. Большой белый опал на цепочке из сплетенного верблюжьего волоса, сверкая розовыми и зелеными искрами, тяжело покачивался между ее грудей, подчеркивая их выпуклость.
Конан приподнялся и сел в шатре, в который он не помнил, как заходил, и увидел, что ногти на ногах Испараны тоже накрашены лаком. У нее были очень красивые ступни, и кожа на них была не темнее, чем у него.
— Ты… отвратителен, — бесстрастно сказала она. — Тебя почти втащили сюда намного позже восхода луны; ты был пьян, бормотал что-то, и от тебя воняло чесноком и их пивом — и сейчас еще воняет!
Он ухмыльнулся, отмечая при этом, какой тяжелой кажется его голова, и гадая, будет ли она выражать протест, если он перейдет к активным действиям.
— И ты меня не убила.
— Убить тебя? Зачем мне тебя убивать?
— Ну как же, Спарана, — сказал он, опуская свою очень большую ладонь на ее бедро, — мы с тобой соперники и заклятые враги, разве ты не помнишь?
— Я помню. А еще я бросила кинжал, который спас тебе жизнь, помнишь?
— Помню. Я благодарен тебе. Значит, мы союзники. И ты даже не обыскала меня. Она посмотрела на него.
— У тебя с собой кинжал, два неплохих граната на шнурках из верблюжьего волоса — к удаче, по поверьям этих лунатиков, — неплохое кольцо, спрятанное в кошельке, и этот хлам, от которого несет чесноком, у тебя на шее.
Конан ухмыльнулся — он предусмотрительно натер глиняный «амулет» со вставленными в него стекляшками шанкийским хлебом, когда почувствовал, что вот-вот отключится. Значит, она его обыскала!
— А если бы Глаз Эрлика был спрятан на моей прекрасной персоне?
— Ну, я бы распорола заднюю стенку твоего шатра твоим же кинжалом, дорогой Конан, а потом воткнула этот кинжал под твои воняющие чесноком ребра и была бы теперь за много лиг к югу отсюда!
— Ах, Спарана, Спарана! Какой мерзкой каргой ты хочешь быть! Как повезло нам обоим, что ты не нашла драгоценный амулет своего драгоценного хана.
И он притянул ее вниз к себе.
— Уф, — пробормотала она. — Пиво и чес… Лицо Конана выразило протест, и он приказал ей убираться прочь и помалкивать.
Факелы мигали. От них клубами поднимался вверх маслянистый дым, который добавлял густоты зловещей черноте балок, соединяющих каменные стены, поднимающиеся от темного, твердого земляного пола. Жертва свисала с одной из этих балок, и ее ноги едва касались пола.
Человек в черном капюшоне еще несколько раз обернул ужасно тонкую веревку вокруг ее запястий и бездушным рывком завязал надежный узел. Ее тело качнулось, и пальцы ног напряглись, чтобы не оторваться от пола. Она — очень белокурая, и юная, и обнаженная, если не считать рубцов, — судорожно втянула в себя воздух, и тело ее содрогнулось от вырвавшегося у нее долгого стона. Ее руки были связаны так крепко, что в кисти не поступала кровь. Человек в капюшоне затягивал веревки, пока они не начали сдирать кожу, впиваясь в запястья и предплечья. Теперь она совсем не чувствовала своих рук, только покалывание в них. Она спрашивала себя — обреченно, словно речь шла о ком-то другом, — были ли они темно-красными, или пурпурными, или уже почернели.
Странно, но она ощущала жар в руках; так подтянутые кверху, они должны были бы мерзнуть. Она сделала еще одну попытку вырваться, но убедилась, что это бесполезно. Она была связана так, что была совершенно беспомощна и не могла сделать ни малейшего движения. Ее пятки чуть-чуть не доставали до пола… так что она касалась его только пальцами и подушечками ступней. Человек в черном капюшоне был высок, и у него были длинные руки.
Булькающие, горловые, резкие звуки вырвались из ее пересохших губ, которые она никак не могла сомкнуть.
Двое людей в мантиях наблюдали за ней. Один из них сказал:
— Вверх.
Она всхлипнула, услышав этот приказ. Она знала, что он означает. Веревки тянулись от ее запястий вверх и были перекинуты высоко над ее головой через балку, обернутую кожей.
Человек в черном капюшоне подтянул ее вверх так, что ее ноги оторвались от пола. Ее вопль был ужасным. Двое мужчин в мантиях наблюдали за ней в молчании, и факелы мигали. Человек в черном капюшоне начал поднимать и опускать веревку вместе с подвешенным над ней грузом, словно звоня в огромный колокол. Его большой живот напрягся от усилий.
Болтающаяся на веревке жертва, подскакивая вверх и падая вниз, начала беспрестанно стонать; ее ребра, казалось, пытаются прорваться сквозь плоть. Ее вытянутое, обмякшее тело крутилось и раскачивалось, как маятник, и в то же самое время веревка дергала его то вверх, то вниз. Пот лился с нее ручьями. Она всхлипывала с каждым, трудно дающимся ей вздохом.
— Говори!
Она услышала голос; она заскулила, и слезы покатились по ее щекам, но она не произнесла ни слова.
— Я не вижу, к чему продолжать это. Используй раскаленное железо.
— Не-ет… — пробормотала она, и ее голова упала на грудь.
Человек в черном капюшоне закрепил конец веревки так, что только пальцы ног жертвы касались земляного пола, и вытащил из-за пояса перчатку. Он натянул ее, шагая к жаровне, зловещей черной твари с огненными волосами, присевшей на своих трех ногах. Из нее торчали деревянные ручки двух тонких прутов из черного железа. Он вытащил один из них; конец прута был раскален добела. Он пожелтел, пока человек в черном капюшоне неторопливо возвращался к своей жертве, которая широко раскрытыми глазами следила за его приближением. Она снова пробормотала «нет» этим едва слышным голосом, и он поднял прут.
На глазах у наблюдающих людей в мантиях он твердо, безжалостно прижал прут к ее телу, которое извивалось и дрожало от ужасного предчувствия. Из ее горла вырвался крик; ее голова дернулась вверх и назад, и новые струйки пота, блестя, покатились по ее телу. Люди в мантиях услышали резкий шкворчащий звук и почувствовали запах горелого мяса.