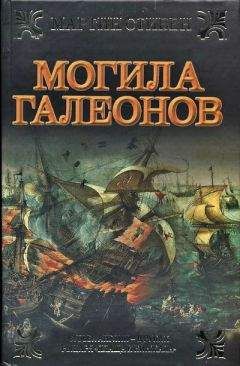Ознакомительная версия.
Тут Луи разомкнул глаза, и мысль о побеге улетучилась: рядом с его постелью стояла пузатая кружка, и вряд ли здесь к нему относились так плохо, чтобы… в общем, кружка просто была обязана оказаться полной! Желательно – каким-нибудь подходящим к случаю снадобьем, но на крайний случай хоть водой.
Дрожащая рука нашарила кружку… и смахнула на пол. Глухой удар, острый запах… Луи свесил голову с постели и застонал: вожделенное снадобье растекалось лужицей по полу меж двух половинок разбитой кружки. А так как единственное жалкое движение, на которое он оказался способен, ясно показало всю невозможность побега, оставалось только умереть.
Спас его Вахрамей. Вошел, покачал головой, увидев разбитую кружку. Сказал ворчливо:
– А я ведь Валерия просил…
– Что?… – просипел таргальский король.
– Помнить, что ты и так-то с ним не вровень пьешь, а уж с дороги… – Магознатец порылся в сумке, всунул в рот Луи что-то едко-горькое. – Глотай и жди, страдалец. Сейчас принесу лекарство.
Через час или полтора, наглотавшись Вахрамеевых зелий, умывшись и категорически отказавшись от завтрака, Луи наконец-то добрался до отца Евлампия.
– Заходи, чадо, – пробасил духовник Егория, углядев в дверях часовни неурочного посетителя. – У меня тут как раз аббат твой сидел. Гнилой человечек, прости меня Господь. Как ты с ним уживаешься, чадо?
– У вас был отец Ипполит? – переспросил Луи.
– На сердце жаловался, – кивнул Евлампий. – Только не вылечить ему сердце, душу не исцелив, а душу… в общем, я не возьмусь. Не тот случай.
Луи с трудом удержал ругательство. Сам ведь виноват! Что велел? До Славышти из кареты лекаря не выпускать. Думал тут втихую под замок посадить. А вот надо сначала дела делать, а потом уж пировать!
Ладно, не самому ж бегать в поисках и не стражу посылать… Евлампий поможет. Еще и к лучшему, что сам на него поглядел…
– Плохо я с ним уживаюсь, отче. О том и поговорить хотел: вроде бы не дело королю в дела Церкви лезть, а и не лезть уже никак.
Евлампий помрачнел.
– Пойдем в исповедальню. К исповеди, небось, давно не ходил?
– Давно, – согласился Луи. – Не такой я дурак, чтоб отцу Ипполиту душу раскрывать, а лгать пред лицом Господним…
Луи пробыл у Евлампия до вечера. Сначала исповедь затянулась, потом светлый отец просто расспрашивал. Об Анже и даре его, о заговоре, о злополучном письме, об императорском посольстве… Примерно на середине разговора пришел Егорий. Пришел по какому-то другому делу, но, услышав, о чем речь, остался. Изредка задавал вопросы – и все больше мрачнел. Сказал, когда Луи умолк:
– Зря затянул. Давно надо было с ними разобраться, вот уж беду нашел – королю неподсудны! Уж прости, от тебя не ожидал.
Евлампий оказался человеком решительным. Встал, буркнул:
– Вот сейчас и разберемся.
Кликнул служку, приказал:
– Кто из Капитула в Славышти сейчас – всех сюда. Отделение Святого Суда, что при миссии Братства святого Карела, отца настоятеля миссии. И таргальского аббата.
Скорость, с которой церковная верхушка Славышти собралась по зову королевского духовника, Луи потрясла и ввергла в зависть. Но отца Ипполита не нашли. Когда же раздосадованный отец Евлампий вопросил, куда мог задеваться не знающий Славышти гость, кто-то из пришедших ответил удивленно:
– Так он же обратно рванул. Стряслось там у него что-то, Господом всеблагим умолял перенос в Корварену ему сделать… Для брата разве жалко… А что, не надо было?
4. Сэр Бартоломью, коронный рыцарь Таргалы
Первую порку сэр Бартоломью схлопотал еще в Ич-Тойвине: с арестантами здесь не церемонились и дерзости им не прощали, даже если дерзость эта выражалась всего лишь в непокорном взгляде. Впрочем, по сравнению с бесконечной чередой признаний – перед императором, его министрами, Капитулом, наконец, на храмовой площади, – унижение позорного наказания казалось сущим пустяком. Да, я привез в Ич-Тойвин гномьи огненные зерна, дабы покуситься на священную особу императора. Да, таков был приказ моего короля. Нет, я действовал один… Клянусь, один! Да что девчонка, она просто подвернулась под руку, обычная паломница, дура набитая. Удобное прикрытие. Глазки строила напропалую, вон, уже на корабле чуть замуж за ханджара не выскочила. Пришлось застращать ханджарской ненасытностью и запереть в каюте. Нет, во дворце сообщников не было, откуда бы. Не знаю, может, и есть разведка, кто ж ее станет раскрывать ради смертника. Да, понимал, что на смерть. Была причина. Неважно… вину заглаживал. Да, подобрался бы на церемонии в храме, самый удобный случай. Да, получается, что и против Церкви. Раскаиваюсь. Чистосердечно. Признаю всю гнусность свою и молю о милости… Свет Господень, да что против этого какие-то плети!
Брат провозвестник пришел к нему под предлогом оказания помощи страждущему. Смирись, говорил светлый отец, поливая исполосованную спину незнакомым рыцарю снадобьем. Мариана в безопасности, ее ты спас. И себя спас, император внял твоему раскаянию и заменил казнь каторгой, завтра объявят. А там, глядишь, вовсе помилует. Вернешься в Таргалу, искупишь невольное предательство верной службой.
Какая верная служба, порывался ответить Барти, о чем вы, отче: единожды предавшему веры нет. Но молчал. Толку думать, как встретят в Таргале, когда еще здесь сто раз прикончить могут. Милость императора – что вода на песке, сегодня есть, а завтра… Да и не нужна ему та милость. Лишь бы Мариану не тронул.
Терпи, чадо, напутствовал напоследок светлый отец. Будь покорен. Опускай глаза перед стражей, не выказывай рыцарскую гордость. Господь благ, а император отходчив; веди себя смирно, и я выхлопочу тебе помилование. И помни о Мариане.
Когда назавтра «гнусного таргальского заговорщика» бросили на колени перед судом императора и огласили приговор: клеймо и каторга – рыцарь принял его почти с облегчением. Теперь он имел право молчать. Видит Господь, лжи в последние дни он наболтал предостаточно.
Клеймо накладывал придворный заклинатель. Кольнуло левую щеку мгновенным острым холодом, себастиец потянулся потрогать – и ощутил под пальцами привычно гладкую кожу. Но любой встречный мог теперь видеть: перед ним – враг короны. Справедливо, мрачно решил Барти, враг и есть. Дал бы Господь случай подобраться – убил бы. Жаль, не судьба. Император жив и готовится напасть на Таргалу, а рыцарь, трясясь на облезлом муле меж четверых конных конвоиров, под жарким солнцем пустынной степи, где песка куда больше, чем травы, угрюмо вертит в голове напутствие светлого отца.
И ничего нет сложного в терпении и смирении. Что ему с насмешек и пинков, щедро отмеряемых ханджарскими сабельниками, после того, как сам себя скрутил и растоптал, заставив предать?
Ознакомительная версия.