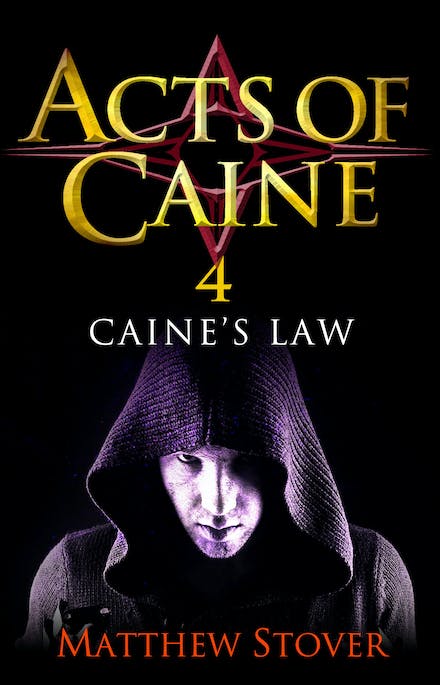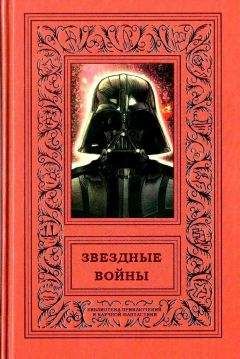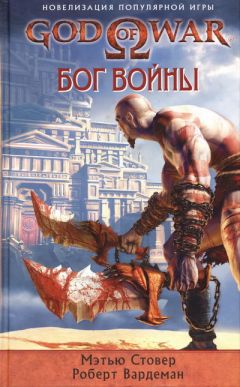- сказал я. - Если упадете, поднять будет некому.
- Ага. - Голос стал грубым, хриплым. - Ага. Помню.
Я не знал, о чем он, так что не ответил. Он снова всмотрелся в отца, потом в меня; лицо было такое, будто он сошел с ума или хочет заплакать. Но затем оно стало всего лишь грустным. - Тяжелый у вас денек.
Я поглядел на папу, но он оставался пустым, словно старый дом в заброшенном районе. - Согласен.
Старикан подошел и сел между мной и бормочущей девочкой. Оперся подбородком о костыль. Казалось, для того он его и носит - подпирать усталую голову. - Мама, верно?
Я глядел в пол. Он знал о том, о чем не должен был; а я уже знал слишком много, чтобы угрожать соцполицией. Может, он сам социк.
- Моя мама тоже тут, - сказал старикан.
Я научился смотреть в пол, но так и не научился помалкивать. - У вас есть мама?
- У всех есть мама. И все мамы умирают.
- Моя мама не умрет.
- Может, не сегодня. Помнишь, что она сказала? Насчет папы?
Я помнил. Лежа на койке в спальне, вся в поту и синяках, из угла рта еще струится кровь. Я помнил, как тряслась рука, схватившая меня за запястье, и как в ее хватке не оставалось силы. - Заботься об отце, - сказала она. - Он единственный отец, который у тебя будет. Он болен, Хэри. Не может себе помочь.
Она многое такое говорила. О том, что это не его вина, и как "папа по-настоящему нас любит и не хочет навредить". Хотя он вредил. Иногда так сильно бил, что она не могла ходить. Я так и не понял: кому какое дело, чья тут вина?
Она часто повторяла "он сам не свой", тоже непонятно: если он не свой, то чей? Если папец просто больной, почему не выздоравливает?
Да кому какое дело? Какая разница? Тычок в рожу есть тычок в рожу. За что и почему - от этого нет пользы.
Но мама явно думала, что мне важно понять, и я всегда кивал и поддакивал: единственный способ успокоить ее тревогу обо мне.
Старикан смотрел так, будто умел читать мысли. - Ибо нет ничего хорошего и дурного, но лишь мышление делает всё таковым. Верно? [1]
Я снова уставился в пол. - Думаю, вам не следует разговаривать со мной.
- Вот это верно. - Он чуть подался ко мне, склоняя голову и понижая голос, словно не желал, чтобы слышал папа; я подумал, что он, наверное, не социк, если бы был социком, знал бы, кто такой папа и что после эпизода он не ответит, хоть в него стреляй. - Слушай, парень. Я хотел...
Он замолк и покачал головой, и я понял, что он кривится, хотя не видел лица. - Только одно, парень. Одно, и оставлю в покое. Ладно?
Я не ответил, потому что увидел его руки.
Он сидел, выставив локти, сложив кулаки между коленей. Забавно: так же часто сидел и папа. Но руки его были не как у папы. Руки отца были большими и сильными, твердыми как кирпичи - когда он нападал, ронял меня на пол, даже не замахиваясь. Даже не сжимая кулаков. Он работал в доках и мы ели хорошо, и он как будто становился сильнее. Сильнее, чем ждешь от здешнего народа. Руки отца были потертыми, с рубцами и жесткими мозолями, но они выглядели руками.
Руки старикана казались молотами.
Не изуродованными - нет, у него все пальцы были на месте - но они были сплошь в рубцах и странных растяжках кожи, по костяшкам и бокам пальцев, так что за этой толстой броней костяшек, собственно, почти не различить. Может, костяшек уже не было? Все, что выделялось на кулаках - более темные полосы кожи между первыми и вторыми пальцами.
Эти руки были созданы, чтобы бить.
- Уродство, ха? Вот что бывает с ребятами вроде меня. В старости. - Он раскрыл кулаки, чтобы я видел шрамы и мозоли на ладонях. Казалось, пальцы плохо ему служат, такие они были корявые, вздувшиеся в суставах. - Малость поздновато брать в руки гитару.
Мне казалось, что нужно что-то сказать. Пусть нельзя говорить с незнакомцами, но я не хотел быть грубияном. Но выдавил я лишь: - У вас сплошные шрамы.
- Ага. У тебя тоже.
У меня не было шрамов, вот таких, разве что отметки после игры с мячом. Он шутил, что ли? - Насмехаться над детьми - это же в жопу дрын.
Я не знал точно, что такое "в жопу дрын", но старшие ребята говорили так, когда кто-то обижал других без причины.
- Я не дразнюсь, малыш. Есть шрамы - и шрамы. - Он говорил так серьезно и грустно, что я поднял голову; и его глаза сверкали слишком ярко, как будто увлажненные. Он пожал плечами и кашлянул, и посмотрел вниз. - Эти, на руках, просто... эй, погляди лучше сюда.
Он изогнулся, оттягивая воротник туники с шеи, и на плече был настоящий шрам, извитой, будто след молнии, волнистый, но чудесно гладкий и белый как плевок.
- Вау. - Я не мог оторвать глаз. - Как вы его получили?
- Один парень ударил топором.
- Взаправду? - Я не мог и вообразить. - Это же так круто!
- Не в тот миг.
- Он же мог отрубить вам руку!
- Только целился он в шею. Да ладно. Но смотри... - Он вытянул руку и сделал круг, показывая, что мышцы работают. - Это один вид шрамов. Они просто напоминают тебе о прошлом. Кажется, он и ключицу мне сломал. Теперь она толще, чем вторая. Много есть таких шрамов. Исцеляются, и ты крепче прежнего.
- Круто.
- Но если бы он, как ты сказал, отсек мне руку... - Он покачал головой. - Это иной вид шрамов. Ты можешь выжить и научиться обходиться без руки; но остаток жизни ты будешь сломан. Немного - или сильно.
Я уловил идею, но не понял, при чем тут я. Так и сказав.
- Не все шрамы остаются на теле, малыш. Но они оставляют тебя сломанным. Моя мама... умерла, когда мне было лет, вот как тебе. Такое дерьмо не перешагнешь. Просто... слушай, малыш. Не упусти шанса поцеловать ее на прощание. Никогда не поймешь, который раз будет последним.