другом кроме его страданий.
Когда он уже заболел, я как-то просидела у него часа три, пила чай и смотрела, как он работает. Он говорит, что чувствует себя человеком только когда может ткать. Я много раз видела, как ткут женщины, но именно его медленный труд навел меня на ту мысль. Пока его челноки сновали, меняя цвета, я подумала: вот что я делаю, сочиняя сказки! Бог – покровитель ткачей и плетельщиков неводов должен покровительствовать также и сказителям. Наше искусство сильно отличаются от речей, какими простые парни возвеличивают себя в глазах своих девушек, чередуя правду и ложь, приплетая слышанное от других и выдуманное самими.
На улице поют и смеются. В моей молодости острова тоже посетила чума – не стану повторять, чего я тогда лишилась. Они веселятся лишь потому, что у них пока болеют только мужчины – хотя я слышала и другое, – притом, как все думают, мужчины вроде Ферона.
Но каково слышать этот смех умирающим, будь то мужчины или женщины?
В моем детстве на острове, что тогда был для меня всем миром, жили дикие племена. На их праздниках, называемых навенами, лучшие охотники и старшие жены рядились нищими, а нищим подчинялись, будто вождям. Женщины рядились мужчинами, мужчины женщинами, дети распоряжались родителями. Целебный обычай, сказка, сотворенная самой жизнью и содержащая в себе множество уроков на будущее. Таков и карнавал в Колхари. Иные назвали бы его чудовищным, но только не я. Я буду гулять и петь вместе со всеми.
Ибо в Колхари прибыл Освободитель…
Но при мысли о тех, кто отлучен от этого праздника, мне хочется бежать из этого города, из этой страны, готовой думать о чем угодно кроме своих страданий. Лишь последствия такого бегства останавливают меня. Чем отправляться в изгнание, не сочинить ли мне сказку? Здесь и сейчас, в этой комнате, в этом переулке? Соткать на словесном станке историю о небывалом побеге, стройную, как песню, радостную, как лето, – пока она не запутается неизлечимо и не будет уничтожена тем же, что ее породило: злые разбойники раздерут все пергаменты в повозке.
Славный получится праздник. Темный карнавал.
7.5. Официальная реакция на чуму в Европе описана Дефо в «Дневнике чумного года» (1722): «Правительство… устраивало публичные молитвы, назначало дни поста и покаяния, [поощряло видных членов общества] публично исповедоваться в грехах и молить Бога отвратить страшную кару, нависшую над нашими головами… Все пьесы, поставленные по примеру французского двора, были запрещены; игорные, танцевальные и музыкальные залы, сильно расплодившиеся и оказывавшие дурное влияние на нравы, были закрыты; шуты, кукольники, канатные плясуны лишились заработков; людей теперь занимало совсем другое, и даже на лица простолюдинов легла тень печали и ужаса. Все ежечасно видели смерть и помышляли о могиле, а не о увеселениях».
Последние строки, возможно, представляют собой официальный отклик на предписание властей: ведь если увеселительные заведения и комедианты в самом деле «лишились заработков», зачем же «запрещать» их и «закрывать»? Даже в схеме Арто при запрещении «государственного» театра вместо него спонтанно возникали другие, символизирующие для автора рождение подлинного зрелищного искусства.
Неверион, не отягощенный микробиологией и акронимами, тем не менее имеет некое интуитивное понятие о заражении. Несмотря на подозрения жителей (или благодаря им) относительно официально разрешенного карнавала и вхождения в кабинет министров Освободителя, эта интуиция вызвала некоторый радикальный отклик.
Известно ли мне какой?
7.6. У сидящего за столом Ферона болели пах, спина и бока. Он не столько думал о своей мастерской, сколько тосковал по ней, но прогулка до конца квартала, к которой он принуждал себя чуть не каждое утро, вновь убедила его в том, что три четверти мили по людным улицам ему не пройти. Куда подевался оголец, помогавший ему в мастерской за неделю до болезни? Вряд ли они увидятся снова. Теперь надо взять девчонку, никаких больше мальчиков – в мастерской то есть. Девочка оценит его остроумие, ее восхитит поток богатых клиентов, она чуточку влюбится в хозяина и будет работать не покладая рук. В мальчишек, даже в уродцев, которых брал из одной только жалости, он в конце концов всегда сам влюблялся или начинал их слишком сильно жалеть – и они, чувствуя это, лентяйничали. Нет, теперь только девочку…
Тут на Ферона словно холодным ветром повеяло: он понимал, что ему уже не поправиться. Он всего лишь приучает себя жить с болью, с немощью, с распадом своего тела.
Мотки пряжи на окне от солнца казались черными.
У дома остановилась повозка, кожаная завеса у входа откинулась.
Ферон думал, что это Норема ему воды принесла, но в дверях возник мальчик. Позади него виднелся человек постарше – знатный господин, судя по парчовому одеянию, – и маячили еще какие-то люди.
– Прошу прощения, – сказал мальчик. – Ты Ферон, красильщик и ткач?
Ферон кивнул.
– Ты болен?
Ферон прищурился.
– Я тоже. Мы все. Меня зовут Топлин, я школяр из Саллезе. Был то есть школяром, пока меня не отослали домой. А рядом со мной господин Ванар. Можно поговорить с тобой?
– Да, конечно. Входите, прошу вас. Присаживайтесь…
8. Еще один парень, занимавшийся проституцией, лет двадцати четырех-двадцати пяти, был очень высокий (примерно шесть футов три дюйма), очень тощий, со светлыми курчавыми волосами. Ему тоже когда-то выбили передние зубы, и по бокам от его улыбки торчали собачьи клыки. Он, как и Джои, жил на улице, сидел обычно на ступеньках химчистки или болтался, руки в карманах, у магазина комиксов. Иногда просил купить ему что-нибудь на его деньги – пиво там или сэндвич: он, мол, слишком грязный, его не обслужат.
– Надо больше стараться, – дразнил я Джои. – Думаешь, ты один такой беззубый торчок? Вон он, твой конкурент!
В конце прошлого июля, часов в десять утра, я встретил на Восьмой авеню Джои, в шортах и грязной бордовой майке.
– Привет, Чип, – сказал он, – поможешь комнату снять? Неохота сейчас ночевать на улице.
Я иногда давал Джои несколько долларов и водил его в «Фиесту» пива попить, если он выглядел более-менее презентабельно. В первые месяцы нашего знакомства, когда стояли сильные холода, я снял ему на неделю дешевую комнату. При этом я понимал, что должен перестать помогать ему, если хочу остаться его другом, и уже два года как перестал.
– Таких денег у меня нет, – сказал я.
– Ну пожалуйста. Уж очень тут стремно.
– Почему стремно?
– Помнишь парня, которого называл моим конкурентом? Беззубого?
– Помню, и что?
– Убили его.
– Да что ты!
– Прошлой ночью. И он уже пятый.
– За что? Что случилось?
– Э, мужик, последнее время

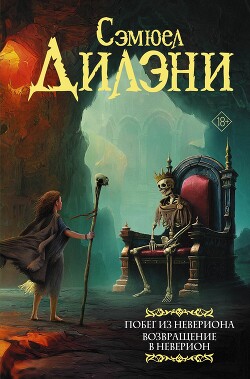


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)