мишень для дартс, а? – Лоб у него вспотел после успешного попадания. Он ухмыляется, показывая длинные нижние зубы и голую верхнюю десну. – Пару месяцев назад я в больнице лежал, они кровь хотели взять на анализ, а я такой: дайте я! Пожалуйста! Вы час будете тыкать мне в руку и ничего не добудете.
Джои женился в девятнадцать, и его дочка всего на месяц младше моей. На фотографиях – его, сильно затасканной, и моей – девочки похожи до ужаса. Я знаю, что он уже три раза умудрился съездить в Бостон, чтобы ее повидать. «Всего-то пару часов с ней провел, – говорил он по возвращении. – Не хочу, чтоб моя старуха расстраивалась. Да и ребенку незачем знать, что папаша у нее наркоман, спит на улице и продает свою задницу». Мне сдается, что любой – даже десятилетняя девочка – заподозрит именно это, проведя с Джои больше пары минут.
Реакция публики тоже более или менее произвольна.
Джои написан на основе моих заметок, сделанных в восемьдесят третьем – восемьдесят четвертом годах. Там говорится о мужчине-проститутке (его имя начинается не на «Дж», и родился он не в Бостоне), серии убийств (со всеми неточностями, услышанными от «Джои») и полицейской операции. Это придает моему рассказу бóльшую достоверность, но менее актуальным он от этого не становится.
11.3. В этот холодный, дождливый пасхальный понедельник, на двадцать градусов ниже нормы (23 апреля 1984), после двухдневных намеков в газетах и на телевидении, шестичасовые новости объявили о прорыве в лечении СПИДа. Из того же выпуска мы узнали, что Великобритания разрывает дипломатические отношения с Ливией из-за убийства женщины-полицейского в Лондоне; узнали о смерти восьмидесятидвухлетнего ландшафтного фотографа Ансела Адамса и полторы минуты смотрели ретроспективу его работ; узнали, что от нью-йоркских судей требуют выносить более суровые приговоры, хотя наши тюрьмы заполнены на 116 %; что гарлемская учительница танцев Мэри Брюс намерена опротестовать выселение из студии на 125-й улице, где она ведет занятия с тридцатых годов.
А доктор Роберт Галло из Национального института онкологии выделил Т-лимфотропный вирус, очень похожий на рядовой ЛАВ и, возможно, идентичный тому ЛАВ, который исследовал Институт Пастера, вызывающий, по всей вероятности, СПИД. На пресс-конференции в Вашингтоне Маргарет Хеклер, министр здравоохранения и социальных служб – с высокой прической, очками в светлой оправе, в красном платье с высоким воротником, – объявила в целый лес микрофонов, что мы можем разработать тест на антитела к этому вирусу через полгода, а вакцину – через два года.
Если это, конечно, тот самый вирус.
Вскоре после этого в облупленных стенах кризисного центра для геев изможденный одноглазый человек сказал журналисту, что новость эта, конечно, хорошая, но две с лишним тысячи больных СПИДом вряд ли проживут столько. В нем самом жизнь поддерживает только работа и сила воли. (За три первых месяца 1984 года к названной им цифре добавилось еще 880 случаев.)
Несколько позже Второй канал честно рассказал о СПИДе в армии и на флоте. Предполагается, что случаев там должно быть гораздо больше пяти объявленных – больше тридцати, скорее всего.
Так или иначе, но после четырех лет и больше четырех тысяч смертей у нас развился еще один болезнетворный агент: микроб ужаса.
11.4. Эту сцену надо расширить на 6–8 с.
Ночное празднество все еще продолжается, а Нари с Садуком, вернувшись в свой темный дом, находят там Ферона. Текст: Садук, присев на корточки, открыл печную дверцу, раздул тлеющие угли, зажег лучину, нашарил наверху лампу. От лучины занялся красный огонек фитиля. Нари, стоя в дверях, ахнула: на скамейке у стола, уронив голову на руки, сидел тощий, как скелет, человек. (Поправка: Локти вздувались, как опухоли, на его исхудавших руках. Сойдет? Возможно.) Огонек лампы колебался, разгораясь все ярче. Человек у стола шевельнулся, поднял голову и уставился на хозяев своими темными радужками, обведенными белками со всех сторон.
– Ферон? – прошептала Нари. Тут надо подчистить. Красный свет падает – на камень? на дерево? Выкинуть или поменять кое-что. В целом ничего, но подчистить и прояснить, как Ферон вошел в дом.
Он сказал, что провел вечер с другими больными. (Где? У Ванара? У себя дома?) А юный Топлин, который свел его с ними, умер днем на руках своей матери. Им об этом сказал его любовник, каменотес, живущий в ремесленном квартале близ школы. Все были потрясены, и Ферону, несмотря на поддержку товарищей по несчастью, захотелось поговорить со своими друзьями. Он попросил, чтобы его подвезли…
– Я не хочу навязываться, мне просто надо… вы ведь не против, а?
Нет, конечно, они ведь друзья. Нари села рядом с ним, Садук поставил лампу и сел напротив. Они были искренне ему рады, но неловкость все-таки чувствовалась.
– Ты как? – спросил Садук. – Может, домой тебя отвести?
– Нет, не сейчас… давайте поговорим. Мне страшно, Нари… и никто не может помочь.
Нари начала было рассказывать о пришествии Амневор, но Садук остановил ее взглядом, давая понять, что их другу хватает своих забот.
– Я всегда старался помогать людям, – продолжал Ферон (вставка: с придыханием, будто говорил сквозь повязку). – И вам, и другим. Ведь это же правда? Не похвальба? А теперь я хочу, чтобы помогли мне – но тут уж ничем не поможешь, верно? Нечестно это. И страшно. Я не могу больше работать, Сади, – ослаб, и все у меня болит. А когда я не работаю, то боюсь. Не смерти – она больше меня не пугает. Боюсь тех пяти дней, пяти недель или пятнадцати месяцев, которые еще придется прожить. Боюсь последних мгновений. Пожалуйста, Нари, Сади… сделайте что-нибудь! Очень уж мне страшно.
После долгого разговора хозяева уложили Ферона на свою кровать. Нари прилегла рядом, Садук, посидев на краю, тоже лег, и все трое уснули тревожным сном, как дети, заблудившиеся в лесу и не знающие, что придет раньше – утро или чудовище. Нет, об этом пока не могу писать. Во-первых, это задевает во мне слишком много эмоций. Во-вторых, я, достаточно циничный для человека, которому стукнет сорок два через семь недель, сомневаюсь, что молодая гетеросексуальная пара так распиналась бы ради друга-гея, хотя бы и умирающего. Это, как-никак, последняя ночь карнавала, завтра им рано вставать и работать десять-двенадцать часов. Они, скорей всего, отвели бы его домой, хотел он того или нет, и ушли бы, слегка сконфуженные. Глубоко об этом задумываться они способны не больше Мастера. Эти два фактора составляют итоговый для данной сцены вопрос. Защищает ли меня цинизм от эмоций? Или: вызывает ли у меня сознание

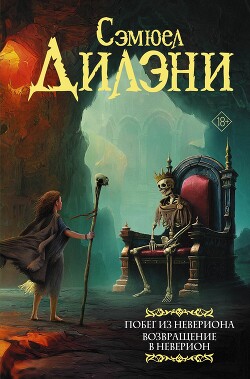


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)