побаловаться хотят, – сам Удрог уж точно. Ну и пусть его, вреда от этого никакого.
Мы более или менее разобрались, в чем заблуждался Удрог, – остается объяснить, что он понимал с полной ясностью.
Прошлой ночью он усмотрел в одноглазом признаки безумия, обмана и опасности; позже, из-за похоронной процессии, он пересмотрел их как признаки величия, благородства и власти, но именно благодаря первому впечатлению не стал ничего предлагать кривому, и последующие события лишь утвердили его в собственной правоте.
В этом человеке, тоже выдававшем себя за Горжика, он ничего такого не усмотрел, а все странности и противоречия, наблюдаемые им в натопленном среди лета замке, были слишком отвлеченными, чтобы делать какие-то выводы; впрочем, Удрог был склонен считать все правящее сословие Невериона безумным – по крайней мере, совсем не таким, как он сам. Странности эти, конечно, озадачивали его, как и очень многое в мире, но опасности, которую он чуял мгновенно, не содержали.
Удрог принял их, как ребенок принимает объяснения взрослого – если этот взрослый, похоже, в своем уме. Если б незнакомец вызвал у него хоть малейшее подозрение, никакие объяснения не помогли бы; но Удрог почему-то чувствовал себя с ним в полной безопасности и даже не думал о бегстве – самом, казалось бы, разумном решении.
Своим любовным прихотям он уже не раз предавался в таких ситуациях, которые отпугнули бы даже нас с вами, людей много старше и мудрее его.
Желаемый ошейник, и тот нашелся, но Удрог в своем детском нетерпении хотел, чтобы все произошло поскорее – лишние разговоры его никак не устраивали.
Он слушал лишь потому, что Горжик был больше, сильнее и назвался на какое-то время его хозяином.
Мальчик в рабском ошейнике и мужчина, лежа на меховом одеяле, смотрели вверх, на стропила, все слабее освещаемые угасающим огнем.
– Вот что самое странное, даже и в эту ночь, – начал Горжик. – Покойник, за колесницей которого я завтра почтительно последую, был когда-то злейшим моим врагом. Когда я мало чем отличался от разбойника и сознавал недостижимость цели, которую поставил себе, я мечтал дать ему затрещину, вырезать ему сердце, медленно замучить его. Он и тогда уже был министром, имел наследственный титул и стоял за то, что я поклялся разрушить. К тому времени, как меня самого возвели в сан министра, мы с ним встречались с дюжину раз – порой беседовали разумно, порой чуть не вцеплялись друг другу в глотки.
Но как только меня ввели в зал совета наравне с другими мужами, враг мой стал для меня наставником и примером. Я смотрел в него, как в зеркало, собираясь что-либо предпринять. Лишь на основе его планов я мог строить собственные, ибо он – отрицать не стану – был куда более сведущ в дипломатии и делах государства. Чтобы одержать победу, мне приходилось во всем подражать ему. Став министром, я поклялся достичь мирным путем того, чего не добился военным: заставить Высокий Двор во главе с малюткой-императрицей отменить рабство в Неверионе. Я знал, что это возможно, но в подлинном мире, где правят голод и жажда, горе и радость, труд и досуг, требуется невообразимое хитроумие, чтобы слова императрицы «Отныне с рабством в Неверионе покончено!» имели больше веса, чем бред сумасшедшей.
Я обучался этому хитроумию у ныне умершего политика, у человека, остававшегося безымянным для половины страны и черпавшего половину своего могущества именно в этом.
Нас связывала взаимная ненависть.
Странно видеть, как размывается граница между тобой и тем, против чего ты всегда боролся, – но я, чтобы добиться желаемого, должен был уподобиться своему недругу.
Ты, может быть, знаешь, что и я был когда-то рабом. Когда к власти пришла малютка-императрица Инельго, моих родителей предали смерти, а меня продали на императорские обсидиановые рудники у подножья Фальтских гор. Я был немногим младше тебя, когда ошейник, добровольно надетый тобой, сомкнулся на моей, отнюдь того не желавшей, шее. Скажу, однако, по секрету, что ошейники стали возбуждать во мне желание много раньше, с пяти-шести лет. Я увидел на складе, где работал отец, пару дюжин рабов в ошейниках и почувствовал… что же? У тебя, как и у меня, есть такие воспоминания, и мы возвращаемся к ним снова и снова, чтобы как-то истолковать свою жизнь. Но какими бы чарующими и даже отчасти правдивыми ни были эти воспоминания, что пользы от них человеку, желающему понять, что такое свобода? Как понять себя в детстве, когда ты еще ни о чем не можешь судить? Поговорим лучше об ошеломленном, напуганном парне, который спустя десять лет сам стал рабом.
Кто он был и как стал кем-то другим?
Мой отец начинал как простой матрос, а стал кладовщиком у купца. Мать таскала корзины на рынке, а стала хозяйкой в собственном доме и даже прислугу имела, девчонку-варварку. Оба они стали жить куда лучше, чем думали в детстве, и от меня ждали того же. Они жили лучше своих родителей, а я должен был жить лучше их. Поверь мне, мальчик, от которого, думаю, никто ничего не ждал: такие ожидания могут быть тяжким бременем.
Я не желал его нести и сбрасывал каждый раз, убегая на улицу или в гавань. Связался с дурной компанией, озорничал, воровал, врал напропалую, бездельничал. При этом был добродушным и дружелюбным – потому лишь, что это помогало избежать всякой ответственности. Только шутка, усмешка да умеренная доброта мешали мне стать законченным негодяем, который лет через десять мог бы сделаться успешным дельцом и продолжать бездельничать, как в юные годы. Но в пятнадцать лет события, которые правители Невериона зовут историей и искажают так, что мы, жившие в те времена, больше не узнаём их, распорядились моей жизнью по-своему.
Дракон пал, и воспарил Орел.
Я видел, как убили отца, и слышал, как убивали мать, – а меня самого, избавив от всех ожиданий, загнали в сырые рудничные ямы. Первые недели я был сам не свой, чуть с ума не сошел. Думал, сколько способен был думать, только об одном: о побеге, но представлявшиеся мне способы разве что в сказку годились. Вечером, когда мы ужинаем наверху у бараков, прилетит дикий фальтский дракон, и когда все повалятся ниц от ужаса, я вскочу на его зеленую спину, и он унесет меня прочь. Однажды утром, когда я поднимусь со своей грязной соломы, никто – ни раб, ни стражник, ни вольный крестьянин – не сможет взглянуть мне в глаза, налившиеся сверхъестественной силой, и я уйду безнаказанно. Работая

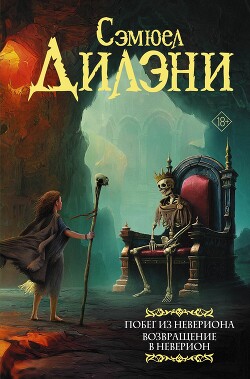


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)