б он тогда что-то вымолвил, я, даже в ошейнике, ответил бы «да». И если бы я, грязный, с рубцом на лице, жалкий и безобразный в его глазах, сказал бы хоть слово, он, как я подозреваю теперь, ответил бы то же самое.
Но мы промолчали.
То, что мы видели – то, что узнали, – по-прежнему не умещалось в слова.
Он взял у меня лампу, еще раз взглянул на Варха.
«Утром посмотрим, как у него дела. Доброй ночи», – сказал он и ушел в свой шатер.
Но я скажу тебе вот что: теперь на мою постель улегся совсем другой парень. Теперь меня переполняли разные мысли. Может, прокрасться к нему и украсть его ключ? Но я ведь не знаю, где он его держит. Уйти прямо так, в ошейнике? Но на дорогах полно солдат и работорговцев. А если вернусь, с рудника уже не сбежишь. Если эти мысли так и остались мыслями – и в ту ночь, и в многие дни и месяцы после нее, – то лишь потому, что я боялся последствий, боялся кары. Но в тот миг, когда мы, раб и хозяин, смотрели в глаза друг другу, я стал прежним собой. Не бедный испуганный господин вернул мне себя; это сделало нечто неуловимое, вроде клубов тумана на лугу, где нам мерешится дракон, на котором мы можем улететь куда захотим.
Год спустя после утраты свободы в моей игре появилось еще кое-что, о чем можно было мечтать. Я и раньше знал, что неверионские господа могут отмыкать мой ошейник и замыкать его снова, – не знал только, что они и на себя ошейники надевают. Теперь я возжелал свободы и власти, которые предстали мне в шатре высокого господина; отходя ко сну, я знал, что не успокоюсь, пока не обрету их; знал, что должен вернуть свободу всем неверионским рабам еще до того, как получу настоящую власть.
Утром все три господина и госпожа, в сопровождении своих слуг, пришли навестить нас. При свете дня стало видно, что мошонка и низ живота у Варха раздулись и почернели. Он мог опереться только на одну ногу, но стойко сносил боль.
Пустомеля предложил Жабе дать Варху еще толику болеутоляющего зелья. Болящего напоили, и нам ничего не оставалось, как вернуться назад: караван шел дальше своей дорогой. Мы с Намуком вели Варха, госпожа Эзулла отправила с нами двух солдат, высокий господин пожелал всего наилучшего. Никто из нас не поминал о том, что нам вернули ошейники.
Одноногого вести нелегко, даже если идти всего-то полмили. Иногда нас сменяли солдаты. Варх трижды просил ненадолго оставить его в кустах и на третий сказал, гримасничая: «Когда отливаешь, больней всего, а течет только тонкая струйка».
Мы с Намуком сразу пошли на работу, сдав Варха стражникам. Ему позволили отлежаться – он, как-никак, пробыл там уже десять лет и всегда работал на совесть.
Вечером, за ужином, мы слышали в соседнем бараке его стоны, переходящие в крик. Моча совсем перестала течь. Убивать его не пришлось – через двое суток он умер.
Утром я видел, как его выносят, – он распух, будто покойник, месяц пролежавший без погребения.
Я часто об этом думал. Вышло бы куда красивее, если бы к мечте о собственной свободе и свободе других рабов меня подтолкнул гнев за убитого Варха. Порой я так и рассказываю – и себе, и другим. У меня, как у любого раба, в запасе много историй. Некоторые я рассказываю так часто, что сам в них уверовал. Реже всего я повествую – хотя вспоминаю снова и снова – о той ночи, когда еще никто (я уж точно) не знал, что Варх скоро умрет; когда я, подглядывая в щелку у входа в шатер, обрел себя прежнего – того, что ищет правды, то и дело заблуждаясь, поддаваясь обману, уступая ярости или гордости. Того, что рассказывает истории.
Даже теперь, достигнув в основном своей цели, я размышляю о том, что нельзя чего-то достичь, если тебе нечем это что-то достать. В ту ночь, когда я узнал свои желания в молодом господине, мне стало ясно, что я не такой, как другие рабы, – а вслед за этим нахлынули размышления, отчего нас всех, несмотря на все наши различия, одинаково угнетают. Узнав, что я, раб, и он, хозяин, можем видеть друг в друге предмет своего желания, я повторял в уме наш ночной разговор, объединивший хозяина и рабов, и думал о тысяче сословных и имущественных различий, сделавших нас такими, а не иными.
Я желал власти, которой обладал он. Желал отчаянно. Именно это желание помогло мне вновь стать собой: власть мне требовалась, чтобы снять ошейники со всех угнетенных, включая себя. Но власть эта, по крайней мере для меня, тесно переплеталась со свободой надевать этот ошейник, когда захочется. Желая ее, я обрел – впервые с прихода на рудник, а может, впервые в жизни – того себя, в котором гнездилось это желание.
Удрог, слушавший Горжика то с любопытством, то со скукой, встрепенулся и после долгого молчания отважился вымолвить:
– Этот господин, надев на себя ошейник, дал тебе свободу надеть его на…
– Ничего похожего! – вскричал Горжик. Удрог, примостившись к нему, вздохнул и зашевелил губами, словно рассказывал себе что-то другое. – Как бы он мог? Он не был свободен носить ошейник как знак своего желания ни при близких, ни при чужих. Увидев меня, он ужаснулся не меньше, чем ужаснулся бы на его месте я. Он не был свободен вернуть мне свободу; даже если бы ему пришло в голову выкупить какого-нибудь раба, то я, после того, как мы узнали друг в друге собственные желания, стал бы последним, кого он выкупил. (А ведь ошейник он снял с меня первого!) После этого взаимного узнавания я уже получил над ним столько власти, что о равенстве не могло быть и речи.
Пойми, Удрог: случай, о котором я говорю, лежит за пределами словесной цепи, связывающей нас с миром, – настолько далеко, насколько это возможно для подлинно происшедшего. Если бы кто-то вздумал меня о нем расспросить, я солгал бы – полностью понимая, что лгу, – чтобы защитить моего господина и себя самого. Думаю, что и он солгал бы, защищая себя и своего раба. Я лгал бы не только ради защиты, а потому, что тогда не знал, как рассказать об этом. Думаю, что и он не знал.
Освободить меня?
Как мог ты, Удрог, – да и я, – даже помыслить об этом, когда он

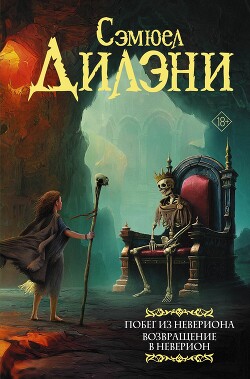


![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)