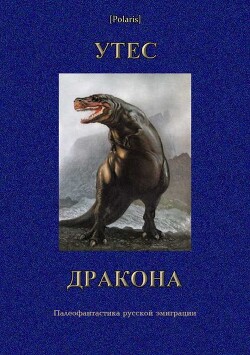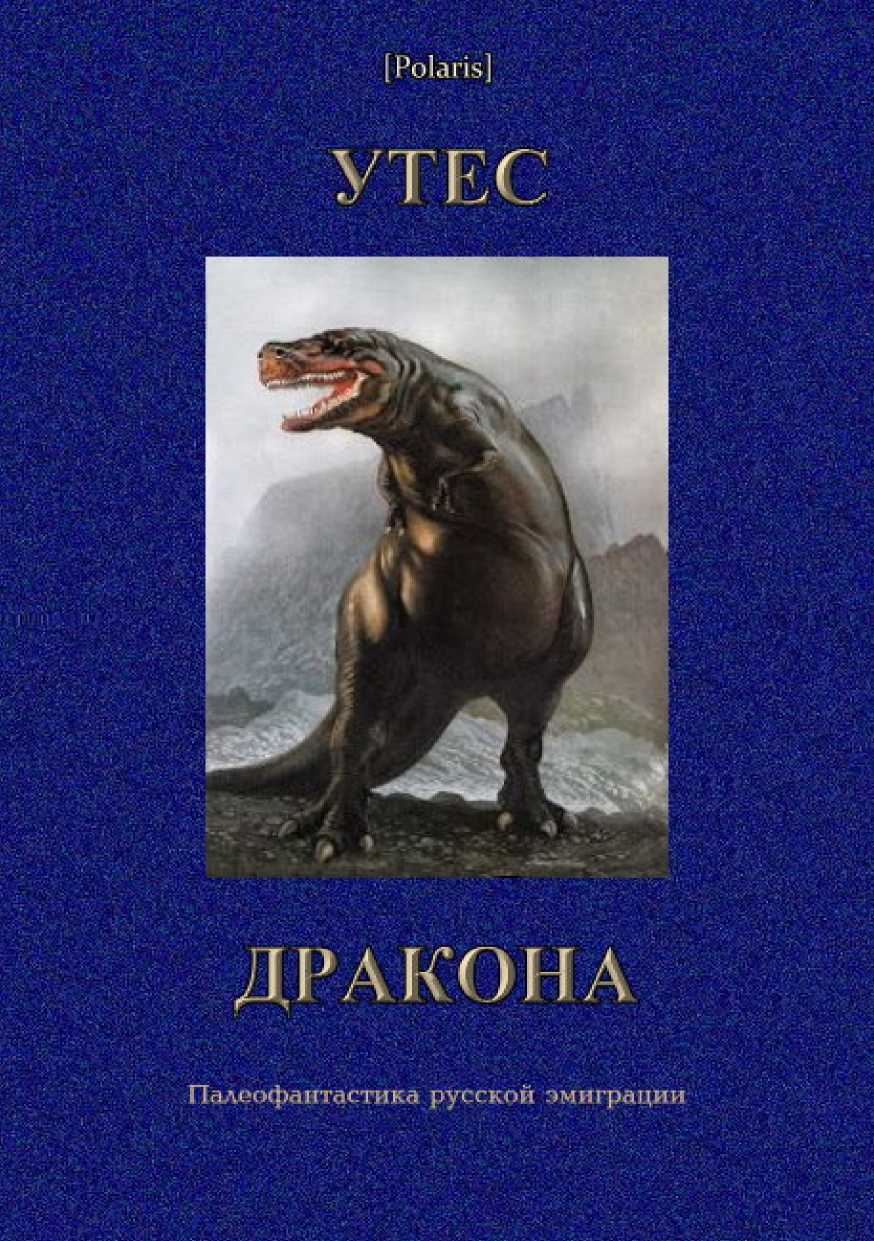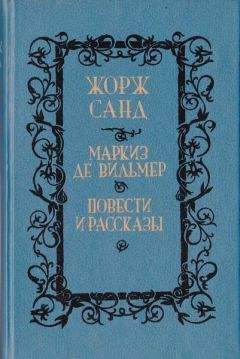УТЕС ДРАКОНА
ПУТЕШЕСТВИЯ . ПРИКЛЮЧЕНИЯ . ФАНТАСТИКА CDXIX
Палеофантастика русской эмиграции
Иван Лукаш
ГОМУНКУЛУС МЕЛЬХИОРА КРАУЗЕ [1]
Что луну делают в Гамбурге, это известно всем.
Мастерил ее там на медных шарнирах один косой сапожник, лысый лунатик, и когда его лунный рог выплывал в ночное небо над черепицами Гамбурга, — желтый, как шафран, и ноздреватый, точно кривой и огромный кусок швейцарского сыра, — почтенные граждане говорили:
— Этот чудак-сапожник снова забавляется с луной.
Впрочем, история гамбургской луны настолько известна, что даже стала поговоркой.
А вот историю о Гомункулусе Мельхиора Краузе — голову могу дать в залог — не знает никто.
Между тем, я сам живой свидетель этого любопытного и причудливого происшествия.
Надобно вам сказать, что Мельхиор Краузе — мой друг.
Это тот самый Мельхиор, что очень молчалив и вежлив, держит голову по-птичьи несколько вбок, а на голове у него странные проплешины, точно черт однажды обложил ему череп синими пятаками, да так и пустил гулять в люди.
Поэтому, может быть, он был несчастен в любви и остался холостяком.
Служил он вторым счетоводом в конторе «Якорь», а жил в Старом городе, недалеко от Дома Черноголовых, в узком переулке, в прадедовской лачуге о трех этажах, с крутой лестницей прямо на двор, под самой крышей, в темных каморках.
И был мой Мельхиор тем мечтателем, какие еще не перевелись в Старой Риге…
Я любил бывать на его чердаке под вечер, когда затихает детвора внизу, и старые стены дышат теплом, и в старых каштанах вкрадчивой свежестью шумит ветер с Двины…
Первая каморка стояла пустой — только вешалка да табурет у пыльного зеркала, где можно было увидеть себя лишь при свече и то с кривой мертвецкой рожей. Во второй — стол, кровать и гитара, а третья была вечно заперта на ключ. Там были Мельхиоровы приборы и книги.
Когда он еще веселился буршем в Дерпте, в этих каморках помер его дядя, отставной рижский органист, задумчивый нелюдим, которого пугался весь переулок.
Мельхиор приехал пропивать дядино наследство и…
И бросил университет и застрял в каморках навсегда.
Я слышал стороною, что в пыльной рухляди органиста он нашел какие-то тяжелые книги в переплетах из свиной кожи, с ветхими листами табачного цвета, изъеденными по краям крысами.
Какие там нашлись книги, я не знаю, но Мельхиор Краузе, второй счетовод рижской конторы «Якорь», стал… чернокнижником и алхимиком.
Алхимик, не правда ли, это дико в наше время, когда Старая Рига и ее старые сказки, и романтики, и вся романтика давно уже вымерли, исчезли, как тихий дым… Но, право, я не виноват, что Мельхиор занялся алхимией.
Он сам мне признался, что ищет золото, философский камень и Гомункулуса.
Я только мог закурить в ответ, хотя и подумал: «Ты, брат, тронулся»… А он ржавым ключом отпер дверь в третью каморку и вынес оттуда пыльную и огромную, как Библия, книжищу. На ее пожелтевшем заглавном листе был изображен хвостатый дракон, три глобуса и затейливая надпись над ними: Scientibus et Artibus [2].
Я перекинул страницу, и черт знает какая понеслась чушь — квадраты черные, круги и ромбы красные, знаки, знамена, звезды, латинские литеры, сирены и змеи, скелеты и олени о восемнадцати рогах…
— Ее оставил мне дядя. Вот его пометки ногтем на полях. Он тоже искал Гомункулуса…
Теперь я понял, что синие пятна на голове Мельхиора — следы его многих и неудачных алхимических опытов.
— Послушай, мы, может быть, поедем на Взморье или посидим в парке на музыке? — сказал я как можно равнодушнее.
— Дрянь твое Взморье, хуже турецкого барабана музыка, — обиделся Краузе и понес такую ахинею, что я не стал даже слушать. Это было вечером в мае…
И только в августе, в безветренный и теплый вечер, я вспомнил о старом приятеле, и меня потянуло в его узкий переулок, где стены так долго хранят тепло скупого солнца.
В переулке — никого. Открыто под самой крышей крошечное окно у Мельхиора. Вечер еще румянит верхние стекла.
Я взбежал по лестнице и с разбегу дернул звонок — один раз, другой. Тишина. В досаде я стал уже сходить с лестницы, и тогда за мною легонько скрипнула дверь.
Мельхиор стоял на пороге со свечою, его глаза рассеянно мигали, точно у птицы, шарахнувшейся из ночной тьмы к огню.
— Что с тобою, Мельхиор, ты точно не узнаешь меня?
— Нет, узнаю… Но уходи, ты мне мешаешь, я занят.
— Отличный прием… Опять, вероятно, алхимия?
— Да.
Он стоял со свечой в прихожей, у пыльного зеркала. Наши лица отражались в мутной бездне, как две мертвецкие бледные маски.
— А впрочем, если хочешь, останься, — тихо сказал Мельхиор. — Я могу открыться тебе: Гомункулус найден мною.
— Как? — Я попятился к дверям… Гомункулус, искусственный человек, — я читал в энциклопедическом словаре, что алхимики вываривали в котлах пропасть всяческой нечисти и бредили, что так точно из бульона можно выварить нового и совершенно живого человека.
— Нет, зачем же мешать тебе, — хитро сказал я. — Прощай.
— Нет уж, оставайся.
И за рукав потянул меня во вторую каморку.
Стол завален кипами чертежей, карандашными огрызками, бутылями с отбитыми горлышками, обмазанными какой-то бурой жидкостью, отдающей миндалем.
— А, вот гитара, — присаживаясь на кровать, сказал я только для того, чтобы сказать что-нибудь, чтобы отогнать страх и молчание. — Ты играешь?
— Тсс… Слышишь?
Он поднял палец. В запертой каморке что-то влажно и мягко сопело, шуршало, как будто там подымалась квашня.
— Это он, — прошептал Мельхиор, — Гомункулус.
— А его не взорвет?
— Нет… Состав девять недель набухает в котле, потом раздается с легким треском и Гомункулус готов… У меня не было алхимического тигеля, я подогревал его просто на керосинке в умывальной чашке.
Мельхиор грустно улыбнулся, и мне стало жалко его.
— Слушай, чудак, все равно, какую чушь коптишь ты на керосинке, но я не оставлю тебя.
— Это не чушь, а Гомункулус. После 49-й алхимической формулы я высчитал знак горения… Потом — кости вола, мышиный мозг, шестнадцать лягушечьих лапок, ртуть, шестьдесят шесть наборов трав, соли — это все пустяки… Главное, что я высчитал знак горения. Слышишь, он бухнет и бухнет уже тринадцатую неделю.
— Ты сумасшедший, Мельхиор, неужели ты думаешь, что у тебя в умывальной чашке родится голый младенец?
— Конечно. Великий алхимик Грекориус Адоратус учил, что Гомункулус в первый день во всем подобен младенцу, а потом становится прекрасным и совершенным, как божество… Я переверну всю землю, я заселю ее божествами…
И тут легко треснуло что-то, точно хлопушка, и за дверью кто-то влажно чихнул.
Мельхиор встрепенулся:
— Он! Он!
И едва не прошиб головой дверь каморки. И вдруг ахнул, затрясся и через меня, через кровать, через стол нырнул в другой угол.
Я оглянулся… И тут начинается то, чему не советую верить, но свидетелем чему был именно я.
Из темных дверей каморки посунулась плоская змеиная морда на длинной серой шее, в покатых глазах отблески свечи.
Я мигом был под кроватью, под столом, в том углу, где уже трясся Мельхиор. Нас била дрожь, как воробьев под градом.
А из каморки, покачивая, точно верблюд, длинной и голой, в пупышах, шеей, уже вылезал неспешно довольно рослый, раза в два выше меня, новорожденный… ихтиозавр… Да, ихтиозавр, точно такой, каких обычно рисуют в учебниках зоологии.
Его ноздреватый и студенистый горб терся о потолок, провел там темную мокрую полосу.