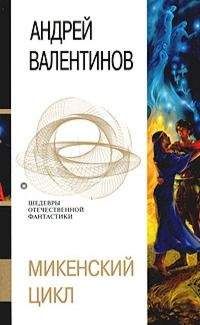Пусти меня!
Прочь!
— Рыжий, здесь не кровью пахнет! Здесь хуже!.. У меня нюх, я чую…
Я толкнул его в грудь. Вырвался из-за колонны. Вот она, Пенелопа. Под галереей, в тени стоит. Озирается с беспокойством: филакийца из виду потеряла. А вот и Телемах с ней рядом. Как же я их сразу не заметил?! А на лук в первую очередь смотрел, потому что…
Лук! Мой лук!
— …пупок развяжется! — ехидные смешки отовсюду. Богатей явно не первый. До него многие пробовали.
Многие! Мой лук!
— Да его сам Геракл не натянет! Дюжина колец… Враки!
— А ну, дай сюда!
Рядом с Богатеем возник Красавчик. Отобрал лук.
Я стою?! Я смотрю?! И еще не сдох от стыда?!
Красавчик закрепил тетиву с одной стороны. Взялся правой рукой за ушко, левой — за роговой наконечник древка, выгнутый наподобие шеи лебедя. Переступил через середину лука, зажав упрямца между бедрами. Налег со всей силы — лук едва заметно подался, и только. На лбу Красавчика выступил пот, на руках вздулись жилы: хитон задрался чуть ли не до пояса, обнажая волосатые ляжки. Он попытался еще раз… Дрянной человечишка хотел изнасиловать мой лук.
Они должны ответить за все! Сдохнуть! Как псы, как мерзкие шелудивые псы!..
— Сегодня неудачный день для состязаний, басилисса, — отдышавшись, громко заявил Красавчик. Пот обильно стекал по его раскрасневшемуся лицу. — Ты поторопилась. Завтра — празднество в честь Аполлона-Лучника. Эти состязания следовало бы посвятить ему: Феб гневается на нас. Завтра мы принесем обильные жертвы…
— Верно, верно!.. — подхватила шелуха. — Молодец, Антиной! Отложим! До завтра…
— Дайте лук страннику.
Я уже знал эту дрожь в низком, грудном голосе. Предчувствие бури. Моя жена была на грани истерики. Подойти? Открыться прямо сейчас? Не послужу ли я последним толчком?! Драконы несут колесницу по краю пропасти, щебень летит из-под когтистых лап, из-под колесных ободов…
Мысли казались чужими.
Злые, кожистые крылья хлестали душу, иссеченную в кровь.
Жена? Сын? Отец? Жизнь?!
Лук!
— Что? Этому бродяге? Пусть радуется, что ему не отрубили уши за наглость!
В подтверждение угрозы Красавчик схватился за нож.
— Дайте лук страннику!
— Позор! Все оборванцы на свете будут потешаться над нами!
Толстяк, широко размахнувшись, запустил кувшином в выступившего из-за колонны филакийца. Мимо. Звонкий треск, брызжут черепки. Один задевает мое плечо.
— Дайте лук страннику! Немедленно!!!
— Мама, прекрати!
— Дайте!!!
— Я уже взрослый, мама! — Телемах взвился живым языком пламени. Быть пожару. — Я в доме хозяин! Иди наверх, займись пряжей!
В полной тишине Пенелопа выбежала прочь. Едва не сбив меня с ног. Короткое, хриплое рыдание метнулось по коридору: дальше, дальше…
Исчезло.
Когда Телемах, кусая губы, все же передал лук филакийцу, Протесилай долго разглядывал оружие. Будто старого знакомого встретил. Морщил лоб, хмурился. Вокруг царили брань, насмешки, но я уже был глух к этой мышиной возне. Ведь на самом деле все очень просто. Надо всего лишь протянуть руку.
Вот так.
И лук пришел.
* * *
— …Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук…
Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.
— …Очень любить эту стрелу…
Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.
— …Надо очень любить свою родину, этот забытый богами остров на самой окраине…
Медное жало вопросительно уставилось на красавчика-Антиноя: ты понял? Не понял? Жаль…
— …надо очень, очень любить свою жену… своего сына… отца…
Двенадцать колец: насквозь.
Это просто.
Это очень просто.
Одиссей хотел опустить лук. Я вернулся. Я вернулся по-настоящему. Я дома. Но пальцы прикипели к костяным накладкам. Не надо, взмолился рыжий, сам не зная — кому. Наверное, себе. Пожалуйста, не надо. Я устал. Я хочу спать. В своем доме, на своей кровати. Со своей женой. Пусть все закончится. Белые губы тряслись, беззвучно шепча странные, заслуживающие презрения слова, и лицо загоралось светом, чье имя опасно произносить вслух.
«Понять — значит, возненавидеть», — еще успел подумать рыжий, прежде чем утонуть в огне.
…Спасибо тебе, Сребролукий. Мне не пришлось стрелять в тебя у стен Трои: благодарю. Я объявляю тебе анафему! Когда все закончится, я принесу жертву Аполлону Разумному. Великую жертву! Гекатомбу…
Я был Зевсом-Жестоким, бичуя перунами вольных титанов, посягнувших на мой Олимп.
Я был Аполлоном, Открывающим Двери, и Артемидой-Охотницей, расстреливая детей фиванки Ниобы, ибо фи-ванка святотатственно оказалась плодовитей нашей матери.
Я был Дионисом-Дваждырожденным, карая фракийца Ликурга за гордыню, а дочерей орхоменского басилея Миния — за насмешки; я был совой, и оливой и крепостью, обтягивая свой щит кожей убитого гиганта и водружая поверх смертоносный лик Медузы.
Я был Черной Афродитой, обрушась на упрямца Нарцисса и Ипполита-афинянина за то, что мне было отказано в жертвенной доле их любви; Колебатель Земли, я разверзал твердь под дерзкими пророками, и, Гермий-Килленец, серпом из адаманта я отсекал голову звездному титану Аргусу Золотые Ресницы.
Я был… я был кем угодно, перестав быть самим собой.
И золотой лук пел в моих руках, забыв, что он и жизнь — одно.
…А еще он может из хозяина раба сделать…
Легко снять с себя вину. Это не я. Это лук. Боги. Случай. Судьба. Она сильнее всех.
Жаль, у меня плохо получается: врать.
Это я.
Одиссей, сын Лаэрта.
ИТАКА. Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагида)
Зеленая звезда бледнеет. Вот-вот растает льдинкой на жаре: ее время вышло. Скоро рассвет. И мое время тоже подходит к концу. Как кислое вино в кувшине: булькает на самом донышке. Чернота неба на востоке болезненно редеет, край купола становится грязно-серым; вскоре он застесняется, порозовеет, затем вспыхнет ослепительным золотом, впуская в мир сияние Гелиоса…
Рассвет медлит, но я чувствую его острое дыхание на своем лице. Осталось совсем немного. Нам с рассветом: самую малость. Я уже рядом, на пороге, я иду, спешу…
Почему-то это кажется очень важным: вернуться до рассвета.