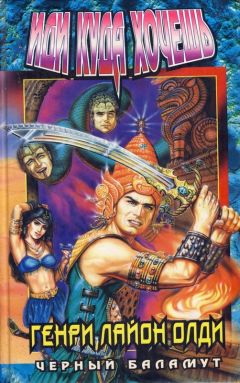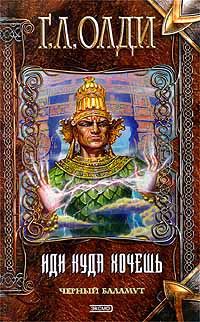…Предатель! Ах я дурак! Еще смеялся, когда мне буквально навязали этого возницу-царя, этого прохвоста! Спорил с ним, когда он, правя моей же колесницей, предрекал мне смерть, а белому кобелю Арджуне — неминуемую победу!
Колесо ударяется о вросший в землю валун. Повозка кренится, лошади истошно ржут, вынужденно повинуясь предательским поводьям… и кровавая трясина, в которую превратился ручей, надежно поглощает обод до середины.
Почему Арджуна не стреляет?!
Почему?!
Я смотрю на возницу-изменника и вижу страх в его глазах. Он что-то понял, что скоро пойму и я… пойму… скоро…
Ступни прожгло острой болью. Чужак вставал во мне в полный рост, это было мучительно больно, но я отдавался ему, как отдаются апсары: искренне и бескорыстно. Дыхание самовольно наполнилось грозой, налетевший ветер взъерошил волосы, превращая их в диадему, вихревой венец, на самых задворках сознания что-то кричал Словоблуд, пытаясь остановить… Тщетно.
— Хорошо есть?! — спросил я у Курукшетры, вспаханного войной поля, притихшего в ожидании страшных всходов.
— Хорошо есть?! — спросил я у Черного Баламута, у нарыва, в чью броню мы с чужаком бились наотмашь, всем телом, одним на двоих, у гнойного чирья, пульсирующего сейчас на северо-востоке.
— Нет, действительно: хорошо есть?! — спросил я у последних трех дней, у безумия и небылиц, у встреч и прощаний, у знания, от которого першило в горле, и у Калы-Времени с ее треснутым кувшином.
Они опоздали.
Замешкались, в результате чего ответ «И хорошо весьма!» так и не прозвучал.
Я расхохотался, заставляя воды Прародины в Безначалье вздыбиться ошалелыми лошадьми, и молния ударила из земли в небо.
Неправильная молния.
Наоборотная.
4
Я ворвался в Обитель, как врываются во вражескую крепость.
…Одна-единственная дверь, сомкнув высокие резные створки, красовалась по правую руку от меня, и я прекрасно знал, что именно ждет меня за одинокойдверью.
Нет, не просто помещение, через которое можно попасть в оружейную.
Мавзолей моего великого успеха, обратившегося в величайший позор Индры, когда победитель Вихря-Червя волею обстоятельств был вынужден стать Индрой— Червем. Так и было объявлено во всеуслышание, объявлено дважды, и что с того, что в первый раз свидетелями оказались лишь престарелый аскет и гордец— мальчишка, а во второй раз бывший мальчишка стоял со мной один на один?!
Червь — он червь и есть, потому что отлично знает себе цену, даже если прочие зовут его Золотым Драконом! Как там выкручиваются певцы: лучший из чревоходящих? Вот то-то и оно…
Словно подслушав мои мысли, створки двери скрипнули еле слышно и стали расходиться в стороны. Старческий рот, приоткрывшийся для проклятия. Темное жерло гортани меж губами, изрезанными морщинами. Кивнув, я проследовал внутрь и остановился у стены напротив.
Все повторялось, и начало дня первого смыкалось с началом дня третьего, переплетаясь телами изголодавшихся любовников.
На стене, на ковре со сложным орнаментом в палевых тонах, висел чешуйчатый панцирь. Тускло светилась пектораль из белого золота, полумесяцем огибая горловину, и уложенные внахлест чешуйки с поперечным ребром превращали панцирь в кожу невиданной рыбины из неведомых глубин. О, я прекрасно знавал эту чудо-рыбу, дерзкого мальчишку, который дважды назвал меня червем вслух и остался после этого в живых! — первый раз его защищал вросший в тело панцирь, дар отца, и во второй раз броня тоже надежно защитила своего бывшего владельца.
Уступить без боя — иногда это больше чем победа Потому что я держал в руках добровольно отданный мне доспех, как нищий держит милостыню, и не смел поднять глаз на окровавленное тело седого мальчишки. Единственное, что я тогда осмелился сделать, — позаботиться, чтобы уродливые шрамы не обезобразили его кожу. И с тех пор мне всегда казалось: подкладка панциря изнутри покрыта запекшейся кровью и клочьями плоти. Это было не так, но избавиться от наваждения я не мог.
А мальчишка улыбался. Понимающе и чуть-чуть насмешливо, с тем самым затаенным превосходством, память о котором заставляет богов просыпаться поночам с криком. Ибо нам трудно совершать безрассудства, гораздо труднее, чем седым мальчикам, даже если их зовут «надеждой врагов сына Индры», и только у Матали да еще у бывалых сказителей хватает дыхания без запинки произнести эту чудовищную фразу.
Именно в тот день Карна-Подкидыш стал Карной-Секачом, а я повесил на стену панцирь, некогда добытый вместе с амритой, напитком бессмертия, при пахтанье океана.
Ах да, еще серьги… он отдал мне и серьги, вырвав их с мясом из мочек ушей, что, собственно, и делало его Карной, то есть Ушастиком! Он отдал мне все, без сожалений или колебаний, и теперь лишь тусклый блеск панцирной чешуи и драгоценных серег остался от того мальчишки и того дня.
Обитель Тридцати Трех пела хвалу удачливому Индре, а у меня перед глазами стояла прощальная улыбка Секача.
Как стоит она по сей день, всякий раз, когда я захожу в этот мавзолей славы и позора.
Я, Индра-Громовержец.
Индра-Червь.
Но сейчас улыбка Секача показалась мне чуточку грустной.
* * *
Я протянул руки и взял серьги. Они висели на бархатной подушечке, рядом с панцирем. Подышал на них, и сердолики в платиновой оправе налились глубоким багрянцем. Ювелиры долины Синдху умудряются варить золотисто-коричневые камни и получают в результате именно такой цвет, густой и теплый, как кровь. Впрочем, мастерство умельцев Второго мира здесь ни при чем. Гоня прочь досужие мысли, я молча смотрел в багрянец, а потом сделал то, что должен был сделать. Серьги крепились к ушам зажимами «когти гридхры», и когда я позволил «когтям» вцепиться в мочки моих ушей…
Я ослеп и оглох. Странно, но сперва мне это даже понравилось. Тьма и тишь окутывали меня жарким покрывалом в тысячу слоев, все исчезло в пуховой бесконечности, лопнул нарыв Курукшетры, ушли в забытье горести с заботами — и лишь пальцы мои продолжали шарить по ковру вслепую.
Жарко… тепло… холодно!
Холод металла.
Вот он, панцирь с пекторалью белого золота, залог подлости и источник видений. Давным-давно, когда мир был молод, а я — так и вовсе юн, мне довелось стоять над вспахтанным океаном, держа в руках этот панцирь и серьги. Вместе с иными дарами. Естественно, серьги были мне без надобности, их я подержал в руках и с согласия братьев подарил маме-Адити, а к панцирю мигом воспылал страстной любовью. Увы, безответной. Брихас напрочь отсоветовал мне брать чудесный доспех, не объясняя причин, но с отвратительно хмурым лицом Хуже грозовой тучи над Гималаями. Скрепя сердце я согласился с Наставником — и панцирь попал к Лучистому Сурье. А я от душевного расстройства нахватал даров сверх меры: Обитель тогда приобрела скакуна Уччайхшраваса, Слона-Земледержца Айравату, саженцы пожелай-деревьев, десяток первородных апсар… Помню, Варуна взял себе одно белое опахало и смеялся, глядя на жадину-Громовержца…