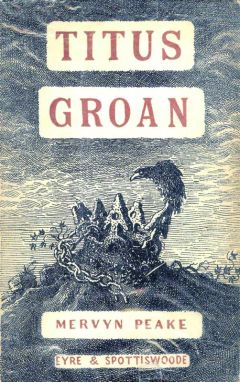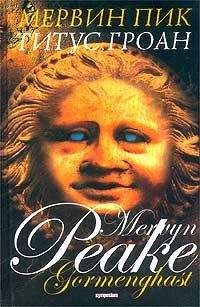Кида
Бесцветные кактусовые деревья стояли между длинных столов. Внешние уже расселись по местам. Госпожа Шлакк их больше не интересовала. Тени отсутствовали, лишь по одной, маленькой, лежало под каждым предметом. Луна застряла в зените. Спутница госпожи Шлакк безмолвствовала. Походка ее и молчание оставляли впечатление некоей силы. В темном доходящем до щиколок платье, препоясанном лыком ярлового корня, голоногая и босая, с лицом, еще сохранившим краски ее закатного дня, она составляла странный контраст маленькой нянюшке Шлакк с ее торопливой семенящей походкой, темным атласным платьем, черными перчатками и монументальной шляпкой со стеклянными виноградинами. Перед тем как они поднялись иссохшим холмом к арочному проходу в стене, их настиг внезапный горловой вскрик, какой издает удушаемый человек, — у старушки от него кровь застыла в жилах, и она, вцепившись, точно ребенок, в сильную ладонь своей спутницы, оглянулась на столы. Расстояние было уже слишком большим, чтобы слабые глаза ее могли что-нибудь различить, однако она вроде бы углядела несколько стоящих фигур и еще одну, присевшую, как перед прыжком.
Спутница старушки, спокойно обернувшаяся на звук, похоже, осталась к происходящему равнодушной и лишь покрепче сжала руку старухи, увлекая ее к каменной калитке.
— Пустяки, — вот и все, что услышала от нее госпожа Шлакк, и ко времени, когда они добрались до аллеи акаций, сердце старенькой няньки билось совсем уже ровно.
При повороте с длинной дорожки к порталу Горменгаста, сквозь который около часу назад нянюшка Шлакк столь скрытно выбралась под вечереющее небо, старушка взглянула на свою спутницу и, чуть приметно пожав плечами, постаралась сообщить своему лицу выражение насмешливой важности.
— Имя? Твое имя? — спросила она.
— Кида.
— Так вот, Кида, дорогая, иди за мной, я отведу тебя к малышу. Я сама тебе его покажу. Он у окна в моей комнате.
Голос Нянюшки вдруг зазвучал доверительно, почти трогательно.
— Комната у меня не очень большая, — сказала она, — но я всегда в ней жила. А другие мне и не нравятся, — не очень искренне прибавила она. — И до леди Фуксии оттуда недалеко.
— Может, и я ее увижу, — помолчав, откликнулась девушка.
Нянюшка вдруг остановилась прямо посреди лестницы.
— Вот это я не знаю, — сказала она, — ох, нет, в этом я совсем не уверена. Она такая странная. Я никогда не знаю, что она может выкинуть.
— Выкинуть? — переспросила Кида. — О чем вы?
— О маленьком Титусе, — глаза Нянюшки тревожно забегали. — Нет, не знаю, что она сделает. Такая несносная — самый тяжелый человек во всем замке, — когда на нее находит.
— Но чего вы боитесь? — спросила Кида.
— Я вижу, как она его ненавидит. Ей хочется быть единственной, ну, ты понимаешь. Любит воображать себя королевой и как все остальные умрут, и никто больше не станет ей приказывать сделать то или это. Она мне сказала, дорогая, что все тут сожжет, когда станет правительницей, весь Горменгаст спалит, и станет жить сама по себе, а я ей говорю, ты злая, а она говорит, все злые — все до единого, кроме рек, облаков и нескольких кроликов. Она меня иногда пугает.
Оставшиеся ступеньки, коридор и еще одну лестницу, ведшую на третий этаж, женщины одолели в молчании.
Когда они добрались до комнаты госпожи Шлакк, старушка приложила палец к губам и улыбнулась улыбкой, описать которую невозможно. То было соединение лукавства с плаксивостью. Затем, очень осторожно повернув ручку двери, она в несколько приемов приотворила ее и просунула в образовавшуюся узкую щель свою высоченную шляпку со стеклянными виноградинами, словно то был авангард, за которым следовали прочие ее составные части.
Вошла в комнату и Кида. Босые ступни ее бесшумно переступали по полу. Госпожа Шлакк, подойдя к колыбели, вновь приложила пальцы к губам и заглянула в люльку, словно в глубочайшую из пещер еще не открытого мира. Вот и он. Маленький Титус. Глаза его открыты, но лежит он неподвижно. Сморщенное личико новорожденного, старое, как мир, мудрое, как древесные корни. В нем все — грех, добродетель, любовь, жалость и ужас, даже красота, ибо глаза у него — чистого фиалкового цвета. Земные страсти, земные горести, несообразная, нелепая комичность земного существования — все они еще дремлют, но различаются в этом насмешливом, размером не более яблока, лице.
Нянюшка Шлакк склонилась над младенцем, поводя перед его глазами скрюченным пальчиком.
— Сладенький мой, — подхихикивая, пролепетала она. — Ну, как ты тут? Как ты?
К Киде госпожа Шлакк повернулась уже с другим выражением лица.
— Как ты думаешь, может, не стоило мне его оставлять? — спросила она. — Когда я пошла за тобой? Может, не стоило?
Кида взглянула на Титуса. Какое-то время она смотрела на него и слезы наполняли ее глаза. Потом отошла к окну. Отсюда видна была облегавшая Горменгаст гигантская стена. Стена, отрезавшая ее от близких, держащая их в отдалении, точно заразу; стена, заслонившая клочок сухой земли за глиняными лачугами, на котором недавно похоронили ее дитя.
Для тех, кто жил в этих лачугах, очутиться внутри стен — это было волнующее событие, выпадавшее, при нормальном течении жизни, лишь в день Блистающей Резьбы, попасть же в сам замок значило пережить нечто и вовсе из ряда вон выходящее. И тем не менее Кида сохраняла бесстрастность, она не потрудилась даже задать госпоже Шлакк какие-либо вопросы или хотя бы толком оглядеться. На взгляд бедной госпожи Шлакк такое поведение отдавало дерзостью, она только не могла сообразить, следует ли ей как-то высказаться на этот счет или не следует.
Но тут вниманием ее завладел Титус и безразличие Киды быстро забылось, ибо младенец заревел и ревел все громче и громче, несмотря даже на бусы, которыми госпожа Шлакк трясла перед его косенькими глазками, и на попытку пропеть колыбельную из своих призабытых запасов. Она подняла его, пристроив себе на плечо, но визгливые вопли стали еще пронзительнее. Глаза Киды по-прежнему оставались прикованными к стене, но вот наконец она оторвалась от окна, приблизилась сзади к няне Шлакк, на ходу расстегнув, начиная от горла, темно-бурую ткань, высвободила левую грудь и сняла младенца с нянюшкина плеча. Спустя несколько мгновений маленькое личико уже плотно прижималось к груди, рывки и рев прекратились. Кида вернулась к окну, присела и покой объял ее, исходя как бы из самой ее сердцевины, и молоко ее тела и все обилие ее оказавшейся ненужной любви, поднялись, будто большая волна, поспешая на помощь крошечному созданию, за которое теперь отвечала она.