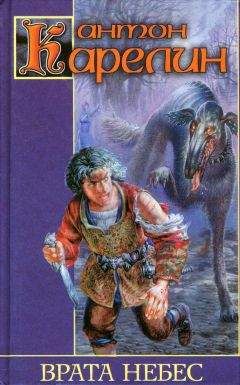— Ты объяснишься, карлик. Объяснишься немедленно.
Тот скривился, затем насмешливо и зло ощерился, выхватил, как шпагу, небольшую свернутую трубочкой бумагу, протягивая ее телохранителю, и, не скрывая проступившего на лице презрения, прошипел:
— Прочти это, если можешь, урод среди великанов! И принеси извинения, иначе я хорошенько запомню твое безрассудство!
Вельх быстро развернул ее, и потрясение отразилось на его сдержанном и мрачном лице, потому что еще до того, как текст краткого приказа был воспринят его сознанием, он узнал почерк Краэнна дель Грасси и понял, что личный палач принца всего лишь исполнял его приказ.
Судорога исказила его лицо, но воин быстро справился с ней, продолжая изучать Высокий приказ.
— Извини мою грубость, Кели, — дочитав, все так же ровно попросил он, поднимая на полурослика белое лицо. — Но тебе следовало предупредить меня.
— Я думал, ты знаешь, — соврал полурослик, радушно улыбаясь. — Давай забудем о глупости мгновений и перейдем к делу… тем более что нашему другу, — он указал короткой волосатой дланью на встающего с колен бледного мага, черное одеяние которого было испачкано серостью привязчивой пыли, — как мы видим, уже несравненно лучше.
— Кто будет оживлять его, — спросил Вельх, усаживаясь на скамью, — и когда?
— Я, — ответил Кели, вынимая из нагрудного кармана вырезанный из бронзы и покрытый эмалью ярко-зеленый лист и почтительно целуя его. — Целительное Милосердие Элис будет со мной… — Он хихикнул. — Тем более что за него заплачено.
Маг посмотрел на него с брезгливой ненавистью и почтительно поклонился в сторону святыни, которую карлик небрежно держал к руках.
— Милосердная Элис, несомненно, ответит на призыв об оживлении, тем более что жрецы ее потрудились над этим листом жизни преизрядно. Им может пользоваться каждый, кто знает слова Истинной Молитвы, — пояснил Кели, посматривая на обоих стоящих перед ним мужчин. — Твое решение, Вельх-телохранитель, было в корне неверно. Я оживлю его прямо сейчас, когда вы оба уйдете, а затем проинструктирую насчет дальнейшей работы. Никто из людей принцессы не знает, что при попытке скопировать документы Вана Дакрэ он был пойман и допрошен, потому отныне он станет работать как надо, по-настоящему.
Вельх кивнул, выслушав это, и, не сказав ни слова, удалился. Следом за ним поспешил и маг, не желающий оставаться с карликом наедине.
Тот проводил их долгим, ничего не выражающим взглядом, и, помедлив, пока их шаги не стихли окончательно, с кряхтением слез с кресла на каменный пол, потирая до сих пор ноющую шею.
— Нож, — сказал он, входя в камеру пыток и приближаясь к развороченному телу секретаря, у которого неведомый зверь выел всю середину, — вылезайте.
Один из углов темной камеры оживился кратким и тихим, едва различимым движением, в результате которого на свет, движущийся от настенных факелов неровными бликами и волнами, показался очень невысокий, ростом меньше пяти локтей, сутулый, хрупкий и худой человек в темном.
В его руках не было видно ножа, но теперь стало ясно, что даже в положении мертвого у Джереми Гарса есть свои преимущества: он по крайней мере сейчас вновь не увидел бледное лицо убийцы соседской девочки, столь ужаснувшего его позавчера.
— Ну, — спросил Кели, подходя к человеку вплотную и, не поднимая и не опуская головы, всматриваясь в его темные тусклые глаза, — что вы думаете обо всем этом?
— Я думаю, — негромким, хрипловатым и неприятным голосом ответил Нож, — что в обоих случаях нам следует выбрать женщин.
— Вернее, — с пониманием поправил его полурослик, — женщину и девочку?
— Да, — ответил человек. — Убить девочку и возвести на трон женщину.
Полурослик еще несколько секунд смотрел на него, ожидая еще каких-нибудь слов, а потом жизнерадостно ответил, потирая руки:
— Отлично! Ну так давайте же это выполнять…
3
Он брел по улице, желая лишь одного: скорее добраться до дома и, укрывшись сном, забыть. Полдень разгорался над его головой во всем великолепии: слепящее жаркое солнце искристыми лучами преодолевало нависший над городом невидимый Щит, проникая сюда лишь ласковым теплом и светом, приятным для глаз. На прямой и широкой центральной аллее, обычно заполненной прогуливающимися людьми, тем не менее сейчас не было ни души: знать, уставшая после второго малого праздника, последнего перед сегодняшним Днем рождения инфанты, отдыхала в раскинувшихся вокруг особняках, укрытых зеленью рощ и садов, набираясь сил для великолепной, сверкающей и грандиозной ночи.
Даниэль шел вперед, ничего не видя перед собой: он едва сдерживал слезы. Лишь редкие спешащие с поручениями слуги да регулярные пятерки императорских гвардейцев с грифоньими нашивками встречались у него на пути.
Первые не обращали на него никакого внимания, потому что не имели на это права и не хотели быть за это наказаны, а вторые лишь бросали краткие косые взгляды и начинали негромко переговариваться у него за спиной.
Даниэль знал, что крылатый слух, ярко сверкающий в потоке всевозможных повседневных вестей, разнесется по всей столице еще до заката: принцесса наконец-то сменила возлюбленного! Те, что в начале недели поставили на юного аристократа, потеряли свои деньги безвозвратно; другие же, наоборот, смогли хорошо на этом заработать.
Наследнику рода Ферэлли и на тех, и на других было наплевать; он справедливо считал их падальщиками. Сейчас он не думал и не помнил о них. Первые несколько кварталов он прошел прямо, со сдержанным показным спокойствием, но с каждым шагом тяжесть становилась все более невыносимой.
Рыдание рвалось из груди; на несколько мгновений он спрятался за ажурной решеткой, покрытой густым плющом, закрылся зеленью живой изгороди, отдался на волю чувствам — и сила этих неудержимых чувств испугала его.
Он не мог стоять, когда ему хотелось бежать, мчаться вперед изо всех сил, чтобы исчерпать их и забыться; слезы блестели в его глазах, неровная походка делала его похожим на пьяного или больного, по всему телу растекалась слабость; сердце его билось сильно и болезненно неровно; он несколько раз останавливался, руками закрывая лицо и едва сдерживая рвущийся наружу горестный плач, трудно и хрипло дышал; горло его пересохло, губы растрескались, словно он целый день шагал по пустыне и не пил уже несколько часов.
В сердце были обида, непонимание и огромная, довлеющая надо всеми чувствами тупая глубокая боль, постоянно принимающая облик любимой. Он вновь и вновь видел прекрасные серые глаза — с застывшим и навсегда въевшимся в память взглядом красивой хищной птицы.