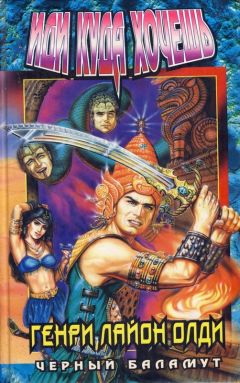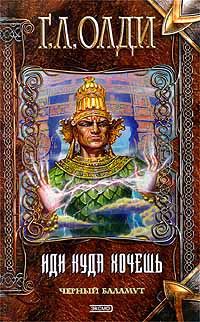«Ом мани! — смеялась кипящая пустота. — Дхэйлилайя!»
— Я не всякому глазу доступен, Я сокрыт пеленой своей майи, мир Меня, ослепленный, не знает, и подвластные майе невежды презирают Меня в смертном теле — их надежды и действия тщетны, тщетно знание разумом бедных…
Ты странствовал по мрачным хлябям Предвечных вод, не зная сна, не находя приюта. И на исходе вечности взору открылся огромный мощный баньян. Древо— исполин. На широких ветвях его раскинулось ложе, устланное дивными покрывалами, и в нем покоилось дитя с ликом, словно полная луна, и прекрасными, как лепестки лотоса, глазами. Ты изумлен: как уцелело это юное существо в час гибели Мироздания? Ты… ты… ты…
Ледяные ладони властно ударили по ушам. И ты, последний человек мира старого, отряхнувший с ног его постылый прах, ты, первый человек мира нового, в котором нищие духом гурьбой войдут в Обитель Тридцати Трех, а блаженные унаследуют райские чертоги, — ты перестал быть. Совсем.
* * *
Комар с противным писком опустился тебе на щеку, и ты машинально прихлопнул кровопийцу.
Зря ты, пожалуй, приехал сюда.
Зря.
Черный Баламут достал из рукава флейту, повертел ее в пальцах и с плохо скрываемым сожалением сунул обратно.
Посмотрел на замшелый бок камня, служившего ему сиденьем.
Ты удивился: в продолговатых глазах Баламута, подведенных по краям сурьмой, далеко, на самом дне, плескался суеверный ужас.
А на боку камня отвратительной пятипалой язвой зиял отпечаток ладони. Выжженный отпечаток. И россыпь мелких камешков, похожих на дождевые капли, рассеялась рядом в траве: словно каменное тело сплавилось от страшного огня, брызнув во все стороны лужей, в которую швырнули гальку.
Зачем-то ты посмотрел на собственную ладонь.
Ничего особенного.
Линии жизни, судьбы, заслуг и прегрешений… ладонь как ладонь.
— Ты не понимаешь, — сказал Кришна, и тебе показалось, что эти слова уже произносились раньше или будут произнесены позже, слова выходили шершавыми, и в горле от них, от чужих слов, стоял ком свалявшейся шерсти. — Ты похож на слепого щенка, который ползет к краю пропасти, а лай матери лишь подталкивает его вперед. В такие минуты полезнее действовать, а объяснять потом… или вовсе не объяснять.
— Не объясняй, — кивнул ты. — Не надо. Нет таких объяснений, после которых я согласился бы стать изменником и убивать своих.
Помолчав, ты добавил:
— Пожалуй, для этого надо родиться царем. Или богом. А я родился сутиным сыном.
— Глупец! Ты родился и тем и другим! Думаешь, я зря спрашивал тебя о твоем отце — еще тогда, при первой нашей встрече, когда ты чуть не сжег дерево подо мной?! Твоя настоящая мать — не та безродная женщина, чей прах мирно спит на кладбище! Тебя родила царица Кунти, неразумно опробовав дарованную ей мантру! А твой подлинный отец сейчас садится за горизонт! Ты — дитя Лучистого Сурьи, ты — полубог, сын Локапалы Юго-Востока, ты — старший из братьев— Пандавов!
— Да? — безучастно спросил ты, прикусывая сорванную травинку.
— Да! Ты мой двоюродный брат по матери! Ты равен мне по праву рождения! Идем со мной — и все цари, собравшиеся ради дела Пандавов, станут целовать прах от твоих стоп! Пусть Юдхиштхира, сын Петлерукого Ямы, будет наследником престола, царствующим под твоим скипетром! Пусть он восходит на колесницу следом за тобой, неся белое опахало! Пусть сын Ветра, могучий Бхима, подыметнад тобой зонт, пусть гордый Арджуна, сын Громовержца, возьмет в руки поводья твоей упряжки, пусть близнецы хором поют тебе хвалу! Пусть их общая жена придет к тебе на шестой день! Пусть радуются друзья и трепещут враги! Царствуй, сын Солнца, сын животворного Вивасвята!..
И Черный Баламут осекся.
Хохот был ответом его пламенной речи. Ты шлепнулся на спину, сотрясаемый пароксизмами смеха, ты хрюкал и бил руками по мокрой траве, ты задирал ноги к фиолетовому небу, словно стремясь пнуть первые звезды и зеленоватый медяк ущербной луны, оглушительные раскаты рвались из твоей груди — и вдалеке испуганно откликнулись шакалы.
Так смеются на площадях, когда балаганный вибхишака пнет в зад тупого мытаря, так смеются над гордецом, плюхнувшимся в лужу, полную слоновьего навоза, так хохочут, не думая о завтрашнем дне.
— Я… я… — Голос отказывался повиноваться тебе, и его приходилось смирять, будто жеребца-двухлетку, не знавшего удил. — Ох, Кришна! Нет, я понимаю — лучшие побуждения и все такое… Я даже могу поверить, что ты не врешь! Но какое — вдумайся, скинь с себя божественную мудрость! — какое может иметь значение, кем и от кого я рожден на самом деле?!
— Для кого я стараюсь? — спросил Черный Баламут у лунного медяка.
— Нет, для кого я стараюсь, из кожи вон лезу?! — спросил он у реки и леса на том берегу.
— И что в награду?
Молчали река и лес, молчала луна, молчала ночь, тихо подкравшаяся к вам, и тишина скорбно кивала головой.
— Я рожден сутиным сыном, — ответил ты Кришне, луне, лесу, реке и тишине.
— А ты, Кришна, рожден барышником. Из меня плохой царь, а из тебя, наверное, плохой бог. Впрочем, неважно. Ты что, всерьез полагаешь, будто Ушастика можно купить за такую малую плату, как трон и небесное родство? Ты мелок в сравнении с Бойцом — тот отдавал мне царство ангов, ничего не требуя взамен, кроме дружбы… А ты требуешь, чтобы я лишил свою мать жертвенной лепешки! Тытребуешь, чтобы я повернулся спиной к старику, который учил меня держать поводья в руках! Ты требуешь от меня предать друзей, покрыть свое имя позором, переступить через самого себя — и все это лишь за чин владыки— полубога?!
— Послушайся ты меня, — устало сказал Черный Баламут, — войны не было бы вообще. Боец не станет драться с тобой, особенно если твои права на хастинапурский трон подтвердятся должным образом. И Царь Справедливости откажется от притязаний на власть, узнав о твоем старшинстве. Война и мир в твоих руках, глупый Карна! Ты встал.
— Я ухожу, Кришна. Считай, что этого разговора не было. Я много хотел сказать тебе и о многом спросить… теперь не хочу. До встречи.
Невидимые когти вцепились в мочки твоих ушей. Багрянец окутал голову, сквозь него лицо Кришны выглядело пепельно-бледным, мертвым, вытесанным из чунарского песчаника, и слова сами легли на язык, правильные слова, единственные слова, от которых не несло падалью и не забивалось горло шерстяным комом.
— Ты лжешь, Кришна. Не в моих руках судьбы войны и мира — вернее, не только в моих. О Баламут, при том великом жертвоприношении оружию ты будешь верховным надзирателем, обязанности жреца-исполнителя также будут принадлежать тебе! Если мы выйдем из этой гибельной битвы живыми и невредимыми, то, быть может, увидимся с тобою снова! Или же, о Кришна, нам предстоит, несомненно, встреча на небесах! Сдается мне, что так или иначе мы обязательно встретимся с тобой, о безупречный…