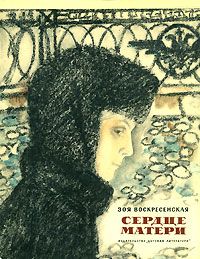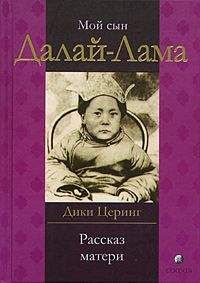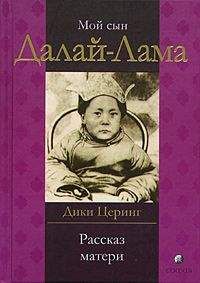на всю жизнь. Без возможности дышать в пустоте без него, какою бы чудовищной силой он меня не сплющивал впоследствии. Не могла я уже ничего изменить. Приобретя его любовь, я утратила свою женскую волю, свою независимую траекторию движения. Как он и хотел, я стала его частью. И что толку говорить о гордости, о достоинстве человека, советовать со стороны, «стань выше своей зависимости», если бы я этих советов вопрошала, он меня без всякой иголки, как я цветной лоскуток со своим платьем, сделал одним целым с собою.
Всю ночь я балансировала на грани какого-то умственного расстройства от всего того, что так быстро на меня обрушилось. Чувствовала ли я себя оскверненной этими, как он называл их, «играми»? Ничуть. Моё тело жило, оказывается, по другим законам, отличным от моих представлений, они мало соответствовали привитым нормам кодекса поведения в нашей среде. В какой? Той промежуточной, не бедняцкой совсем-то уж, но и не аристократической, если мы и рядом уже не стояли с аристократами. В среднем сословии, так, наверное, можно говорить. Хотя правила были одни на всех. Жестокие и всеми нарушаемые.
Бабушка учила меня всё пропускать через свою душу, любое действие, но была ли ему нужна моя душа? И как это было возможно отвергать душой и жадно принимать телом одновременно? Испытывать острый стыд и всё равно желать того, что этот стыд возбуждает? Я не могла спросить об этом никого, даже Тон-Ата. Раскрыть ему своё падение, свою горячечную готовность ко всему, чего хотел Рудольф. Содрогание и стыд, страх и наслаждение, желание бесконечного уже повторения и стремления к большему, главному, вот что сотрясало меня всю.
Я растерянно смотрела в огромное отполированное зеркало на стене, ища перемены в своём лице. Я казалась себе маленькой и какой-то повреждённой. Или отражение старинного зеркала было неверным? Вдруг все заметят, все поймут, что я стала другая, что я уже падаю, уже падшая? Будь здесь сейчас Ифиса, она бы точно обо всём догадалась. Она и вчера что-то заподозрила, изучая сброшенное ночное платье и моё голое тело. И этот её разговор о Рудольфе, когда она заглядывала в глаза мне при этом, будто вопрошала о том, о чём догадалась. Она всё слонялась вчера по спальне, словно что искала, что могло бы ей подтвердить её подозрения. Но что и Ифиса? Что она?
Зеркало показало моё отражённое лицо, слегка осунувшееся от недосыпа. В целом же вид мой как был кукольно-глупый, так и остался таким же для внешнего наблюдателя. Только я сама видела смятение души, плескающееся в моих зрачках. Душа, оказывается, тоже принимала во всём участие, в этих играх, как я не обольщалась на её счет. И она-то и хотела повторения всего, волоча за собою и тело к тому, кто дал новые ощущения и плохо пока вмещаемые чувства. Душа горела от раскалённого клейма, задавшего моей любви форму личной раздвоенности того, кто этим клеймом и владел. Я стремилась к уже утраченному мирному единению всех своих чувств и устремлений, но некое незримое безжалостное лезвие меня разрезало пополам, и отныне одна моя половина не желала совмещаться с другой.
Надо было всё рассказать Нэилю, Гелии, но как? Если бы я это сделала тогда, я бы уберегла их от трагедии. И Тон-Ату я не могла признаться, он бы вытянул из меня все подробности, почему я предала подругу и родного брата, как это произошло? Рассказать же ему о том, что происходило, и какая перемена во мне, я не могла. И Рудольфу я хотела верить, что ради любви ко мне, он не причинит вреда тем, кто мне дорог. И эти метания убивали всю радость пробудившейся во мне любви, если это была любовь. Но что тогда?
Внутри всё рвалось с треском, но внешне это выражалось в моём бесцельном шатании из комнаты в комнату. Я не понимала причину упадка своего настроения, как будто я реально грохнулась на пыльную площадь после того, как зависала вместе с ним на летающей платформе в небесной оторванности от привычного мира.
— Что впереди? — спросила я у своего отражения, — и ты ли это, кого бабушка называет «невинным сердечком»? — А «невинное сердечко» заходилось не только от пережитых ночных ласк с фальшивым акробатом в самом настоящем фургоне бродячих актёров. И оно совсем не понимало, не чувствовало, что он вошёл в мою душевную плоть столь же твёрдо и яростно, как сделает это вскоре и с моим телом, завладев мною окончательно. И где было всеведение, якобы всегда и всё предчувствующего сердца, какое обычно ему и приписывают?
Побродив бесцельно по комнатам, уже не таким уютным как в детстве, опустошенным дальнейшими годами бедности после мамы, я проскользнула в свою спальню, благо бабушки не было в доме. Тут было мне везение. Ведь бабушка могла и вернуться. Она же не сообщала о своих возвращениях домой. Приходила, когда считала нужным, и уходила также. Объяснения о том, что я ночевала у Гелии, мало что значили для бабушки. Она запрещала мне там оставаться. Считала, что там порочная атмосфера, способная навредить моему «невинному сердечку». «Чего ты шьёшь для этих потаскух? Шей лучше простым девушкам и женщинам из нашего квартала. Как я когда-то». — говорила бабушка.
Нэиль всегда возражал бабушке, — Ещё чего! Шить им. Разве она родилась со всеми своими талантами ради того, чтобы обшивать простонародную и недоразвитую толпу?
— Молчи уж, аристократ без поместий и статуса! — грубила ему бабушка.
— К чему мне эти никчемные поместья и какой-то там статус, — ответил он спокойно и надменно. — У меня будет подлинная власть над всей Паралеей. — Он расправил плечи, поднимал кверху подбородок и, великолепный блистательно молодой, смотрел в ту будущую реальность, которая лично для него уже не реализуется никогда…
Девушка с оленем из былых измерений счастья
Сейчас, когда я, глядя из своего будущего в то исчезнувшее давно утро, уже знаю, что ничего этого у него не будет, я не могу ни страдать, вспоминая о нём. И опять я спрашиваю у безответного прошлого, где же было твоё предвидение, Тон-Ат? Как мог злодей Хагор перебежать дорогу такому непревзойдённому проектировщику как ты и подставить такую роковую подножку судьбе моего брата? Твоего названного сына… Да и всем нам.
Но в описываемое время, в это самое утро моей юной поры, я замерла перед фигуркой вечно юной дамы с оленем, так и стоящей наверху стеклянной витрины. Сама витрина была наполовину разорена годами нужды, и её,