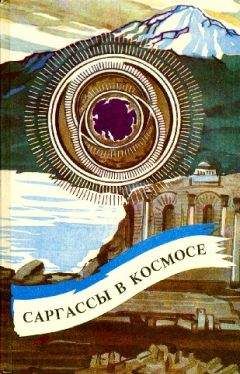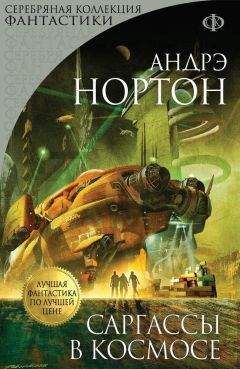Она подвинула третий бокал Тол мену, и тот посмотрел на нее в изумлении.
— Неужели…
Она кивнула.
* * *
Обедали втроем. Толмен не сводил глаз с цилиндра высотой и диаметром шестьдесят сантиметров (цилиндр возлежал против него на столе) и старался уловить проблеск разума в двойных линзах. Линда невольно представлялась ему жрицей чужеземного идола, и от этой мысли становилось тревожно. Линда как раз накладывала в металлический ящичек охлажденные, залитые соусом креветки и по сигналу усилителя вынимала ложечкой скорлупу.
Толмен ожидал услышать глухой, невыразительный голос, но система “Соновокс” придавала голосу Квентина звучность и приятный тембр.
— Креветки вполне съедобны. Зря люди по привычке выплевывают их, едва пососав. Я тоже воспринимаю их вкус… только вот слюны у меня нет.
— Ты… воспринимаешь вкус…
Квентин усмехнулся.
— Послушай-ка, Вэн. Не прикидывайся, будто ты считаешь это в порядке вещей. Придется тебе привыкать.
— Я-то привыкала долго, — подхватила Линда. — Но прошло немного времени, и я поймала себя на мысли: да ведь это как раз в духе вечных чудачеств Барта! Помнишь, в Чикаго ты явился на совещание дирекции в рыцарских доспехах?
— И отстоял-таки свою точку зрения, — сказал Квентин. — Я уже забыл, о чем шла речь, но… мы говорили о вкусе. Я ощущаю вкус креветок, Вэн. Правда, кое-какие нюансы пропадают. Тончайшие. Но я различаю нечто большее, чем сладко — кисло, солоно — горько. Машины научились различать вкус много лет назад.
— Но ведь им не приходится переваривать пищу…
— И страдать гастритом. Теряя на утонченных удовольствиях гурмана, я наверстываю на том, что не ведаю желудочно-кишечных болезней.
— У тебя и отрыжка прошла, — заметила Линда. — Слава богу.
— И могу разговаривать с набитым ртом, — продолжал Квентин. — Но я вовсе не тот супермозг в машинном теле, какой тебе подсознательно рисуется, приятель. Я не изрыгаю смертоносных лучей.
Толмен неловко ухмыльнулся.
— Разве мне такое рисуется?
— Пари держу. Но… — Тембр голоса изменился. — Я не сверхсущество. В душе я человек человеком, и не думай, что я не тоскую порой о былых денечках. Бывало, лежишь на пляже и впитываешь солнце всей кожей — вот таких мелочей не хватает. Танцуешь под музыку…
— Дорогой, — сказала Линда.
Тон голоса стал прежним.
— Ну, да. Вот такие банальные мелочи и придают жизни прелесть. Но теперь у меня есть суррогаты — параллельные факторы. Реакции, которые совершенно невозможно описать, потому что… скажем… электронные импульсы вместо привычных нервных. У меня есть органы чувств, но только благодаря механическим устройствам. Когда импульсы поступают ко мне в мозг, они автоматически преобразуются в знакомые символы. Или… — Он заколебался. — Пожалуй, на первый раз достаточно’.
Линда вложила в питательную камеру кусочек балыка.
— Иллюзия величия, а?
— Иллюзия изменения… только это не иллюзия, детка. Понимаешь, Вэн, когда я превратился в транспланта, у меня не было эталонов для сравнения, кроме ранее известных. А они годились лишь для человеческого тела. Позднее, принимая импульс от землечерпалки, я чувствовал себя так, словно выжимаю акселератор в автомобиле. Теперь старые символы меркнут. У меня теперь ощущения… более непосредственные, и уже не надо преобразовывать импульсы в привычные образы.
— Так должно получаться быстрее.
— И получается. Если я принимаю сигнал “пи”, мне уже не надо вспоминать, чему равно это пи. И не надо решать уравнения. Я сразу чувствую, что они значат.
— Синтез с машиной?
— И все же я не робот. Все это не влияет на личность, на сущность Барта Квентина. — Наступило недолгое молчание, и Толмен заметил, что Линда бросила на цилиндр проницательный взгляд. Квентин продолжал прежним тоном: — Я страшно люблю решать задачи. Всегда любил. А теперь решение не остается на бумаге. Я сам осуществляю всю задачу, от постановки вопроса до претворения в жизнь. Я сам додумываюсь до практического применения и… Вон, я сам себе машина!
— Машина? — откликнулся Толмен.
— Ты не замечал, когда вел автомобиль или управлял самолетом, как ты сливаешься с машиной? Она становится частью тебя самого. А я захожу еще дальше. И это приятно. Представь себе, что ты можешь до предела напрячь свои телепатические способности и воплотиться в своего пациента, когда ставишь ему диагноз. Это ведь экстаз.
Толмен смотрел, как Линда наливает сотерн в другую камеру.
— Ты теперь никогда не напиваешься допьяна? — спросил он.
Линда расхохоталась.
— Вином — нет… но Барт иногда пьянеет, да еще как!
— Каким образом?
— Угадай, — подзадорил Квентин не без самодовольства.
— Спирт растворяется в крови и достигает мозга — эквивалент внутреннего вливания, да?
— Скорее я ввел бы в кровь яд кобры, — отрезал трансплант. — Мой обмен веществ слишком утончен, слишком совершенен, чтобы нарушать его посторонними соединениями. Нет, я прибегаю к электрическим стимуляторам: от индуцированного высокочастотного тока становлюсь пьян как сапожник.
Толмен вытаращил глаза.
— Да. Табак и спиртное — раздражители, Вэн. Мысли — тоже, если на то пошло! Когда я испытываю физическую потребность захмелеть, я пользуюсь особым устройством — оно стимулирует раздражение — и извлекаю из него большее опьянение, чем ты из кварты мескаля.
— Он цитирует Гаусмана, — сказала Линда. — И подражает голосам животных. Барт так владеет голосом — просто чудо. — Она встала. — Вы уж извините, у меня есть кое-какие дела на кухне. Автоматика автоматикой, но должен ведь кто-то нажимать на кнопки.
— Помочь тебе? — вызвался Толмен.
— Спасибо, не надо. Посиди с Бартом. Пристегнуть тебе руки, дорогой?
— Не стоит, — отказался Квентин. — Вэн мне подольет. Поторапливайся, Линда: Саммерс говорит, что мне скоро пора возвращаться на работу.
— Корабль готов?
— Почти.
— Никак не привыкну к тому, что ты управляешь космолетом в одиночку. Особенно таким, как этот.
— Возможно, сметан он на живую нитку, но на Каллисто попадет.
— Что ж… будет хоть какая-то команда?
— Будет, — подтвердил Квентин, — но она не нужна. Это страховые компании потребовали, чтоб была аварийная команда. Саммерс хорошо поработал — переоборудовал корабль за шесть недель.
— С такими-то материалами — сплошь жевательная резинка да скрепки для бумаг, — заметила Линда. — Надеюсь, он не развалится.
Она вышла под тихий смех Квентина. Помолчали. Толмен остро, как никогда, ощутил, что его товарищ, мягко говоря, изменился. Дело в том, что он чувствовал на себе пристальный взгляд Квентина, а ведь… Квентина-то не было.