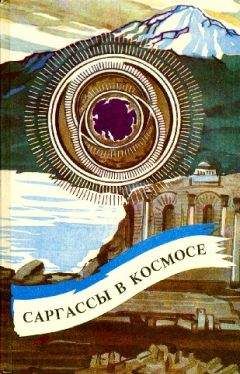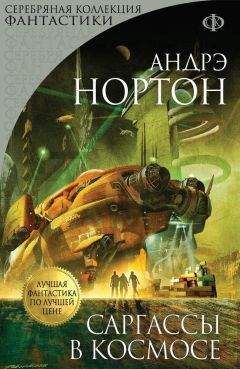Толмен усмехнулся. На душе у него стало легче.
— Мы люди. — сказал, — но мы-то пока трезвы.
— Чепуха. Посмотри на индикатор. Мы приближаемся к Земле.
— Хватит дурака валять, Квент, — устало проговорил Толмен. — Ты блефуешь, и оба мы это понимаем. Не можешь ведь ты до бесконечности терпеть высокочастотный раздражитель. Не трать время, сдавайся.
— Сам сдавайся, — сказал Квентин. — Я вижу все, что делает каждый из вас. Да и корабль — ловушка на ловушке. Мне остается только наблюдать отсюда, сверху, пока вы не очутитесь возле какой-нибудь ловушки. Я свою партию продумал на много ходов вперед, все гамбиты кончаются матом одному из вас. У вас нет никакой надежды. У вас нет никакой надежды. У вас нет никакой надежды.
Отсюда, сверху, подумал Толмен. Откуда сверху? Он вспомнил реплику Коттона, что найти транспланта поможет геометрия. Конечно. Геометрия и психология. Разделить корабль на две части, потом на четыре и так далее…
Теперь уже не обязательно. Сверху — решающее слово. Толмен ухватился за него с пылом, ничуть не отразившимся на его лице. Сверху — значит, зона поисков сужается вдвое. Нижние участки корабля можно исключить. Теперь надо разделить пополам верхнюю секцию — линия пройдет, допустим, через звездный глобус.
Глаза транспланта — фотоэлементы — расположены, конечно, повсюду, но Толмен решил исходить из того, что Квентин считает себя находящимся в одном каком-то пункте, а не разбросанным по всему кораблю. Местонахождение человека в его понимании соответствует местонахождению головы.
Итак, Квентину видно кровавое пятно на звездном глобусе, но это не значит, что он находится в стене, к которой обращено это полушарие глобуса. Надо спровоцировать транспланта, пусть укажет свои координаты относительно тех или иных предметов на корабле, но это будет трудно: ведь в таких случаях координаты определяются на глазок; зрение — важнейшее звено, связующее человека с его окружением. А у Квентина зрение почти всемогущее. Он видит все.
Но можно же его как-то локализовать!
Помогла бы словесная ассоциация. Но для этого нужно содействие. Квентин не настолько пьян!
Можно узнать, что именно видит Квентин, но этим все равно ничего не определишь: его мозгу не обязательно соседствовать с одним из глаз. У транспланта есть неуловимое, внутреннее ощущение пространства — сознание, что он, слепой, глухой, немой, если бы не разбросанные повсюду дистанционные датчики, находится в определенном месте. А как вытянуть из Квентина то, что нужно: ведь на прямые вопросы он не ответит?
Не удастся, подумал Толмен с безнадежным чувством подавленного гнева. Гнев разрастался. Он бросил Толмена в пот, вызвал тупую, щемящую ненависть к Квентину. Во всем виноват Квентин — в том, что Толмен стал узником ненавистного скафандра и огромного смертоносного корабля. Машина виновата…
И вдруг он придумал выход.
Все, конечно, зависит от того, насколько пьян Квентин. Толмен бросил вопросительный взгляд на Ферна, а тот в ответ повернул диск и кивнул.
— Будьте вы прокляты, — шепотом произнес Квентин.
— Чепуха, — сказал Толмен. — Ты сам дал понять, что у тебя исчез инстинкт самосохранения.
— Я… не…
— Это правда, не так ли?
— Нет, — громко ответил Квентин.
— Ты забываешь, Квент, что я психолог. Мне давно следовало всесторонне охватить твою проблему. Она ведь была открытой книгой еще до того, как я тебя увидел, только читай. Стоило мне увидеть Линду.
— Помолчи о Линде!
На какой-то миг Толмену явилось тошнотворное видение пьяного, измученного мозга, скрытого где-то в стене, — сюрреалистический кошмар.
— Ясно, — сказал он, — ты и сам не хочешь о ней говорить.
— Помолчи.
— Ты и о себе не хочешь думать, так ведь?
— Чего ты добиваешься, Вэн? Хочешь меня разозлить?
— Нет, — сказал Толмен, — просто я сыт по горло, надоела мне вся эта история, с души воротит. Притворяешься, будто ты Барт Квентин, будто ты еще человек, будто с тобой можно договориться на равных.
— Мы не договоримся…
— Я не о том, и ты сам это знаешь. Я только сейчас понял, кто ты такой.
Слова повисли в мутном воздухе, Толмену казалось, будто он слышит тяжелое дыхание Квентина, хоть он и понимал, что это иллюзия.
— Прошу тебя, Вэн, помолчи, — сказал Квентин.
— А кто это просит?
— Я.
— А ты кто такой?
Корабль резко остановился. Толмен чуть не потерял равновесия. Его спас канат, обмотанный вокруг колонны. Он засмеялся.
— Я бы над тобой сжалился, Квент, если бы ты был ты. Но это не так.
— Меня на удочку не поймаешь.
— Пусть это удочка, но это правда. Ты и сам над этим задумался. Голову даю на отсечение.
— Над чем задумывался?
— Ты больше не человек, — мягко сказал Толмен. — Ты вещь. Машина. Устройство. Кусок серого губчатого мяса в ящике. Неужели ты думал, что я способен к тебе привыкнуть… теперь? Что я могу отождествлять тебя с прежним Квентом? У тебя ведь лица нет!
Из динамика донеслись звуки. Металлические. Потом…
— Замолчи, — сказал Квентин почти жалобно. — Я знаю, чего ты добиваешься.
— Ты не хочешь смотреть правде в глаза. Только ведь придется, рано или поздно, убьешь ты нас или нет. Это… происшествие… случайность. А мысли в твоем мозгу будут все расти и расти. Ты будешь все больше и больше изменяться. Ты уже сильно изменился.
— Ты с ума сошел, — сказал Квентин. — Я ведь не… чудовище.
— Надеешься, да? Рассуждай логически. До сих пор ты не решался, так ведь? — Толмен поднял руку в защитной перчатке и стал загибать пальцы, отсчитывая пункты обвинения. — Ты судорожно хватаешься за то, что от тебя ускользает, — за человечность, твой удел по праву рождения. Ты дорожишь символами в надежде, что они заменят реальность. Отчего ты притворяешься, будто ешь? Отчего настаиваешь, чтобы коньяк тебе наливали в бокал? Знаешь ведь, что с тем же успехом его можно выдавить в тебя из масленки.
— Нет! Нет! Эстетическая…
— Вздор. Ты смотришь телевизор. Читаешь. Притворяешься до такой степени человеком, что даже стал карикатуристом. Это все притворство, отчаянное, безнадежное цепляние за то, чего у тебя уже нет. Откуда у тебя потребность в пьянстве? Ты не уравновешен психически, оттого что притворяешься человеком, а на самом деле давно уже не человек.
— Я… да я еще лучше…
— Возможно… если бы ты родился машиной. Но ты был человеком. Имел человеческий облик. У тебя были глаза, волосы, губы. Линда не может этого не помнить, Квент. Ты должен был настоять на разводе. Понимаешь, если бы тебя только искалечило взрывом, она бы о тебе заботилась. Ты бы в ней нуждался. А так — ты независимая, самостоятельная единица. Линда тщательно притворяется. Надо отдать ей должное. Она старается не представлять тебя сверхмощным вертолетом. Механизмом. Шариком сырой клетчатки. Тяжко же ей приходится. Она тебя помнит таким, каким ты был.