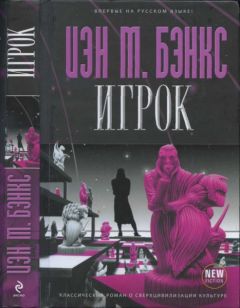— Ты получишь несколько дней отпуска, как всегда, — продолжал Вепперс, — но не больше, и постарайся с этим смириться. — Его глубокий голос эхом отдавался от стен зала. — Выходи, будь хорошей девочкой, и тебе никто не причинит вреда. Ну, во всяком случае, если и причинит, то он окажется не очень значительным. Так, маленький штраф. Ты же проштрафилась, гм? Возможно, мне придется кое-что добавить к твоим телометкам. Маленькая поверхностная деталь, часть весьма утонченного рисунка, ты же меня знаешь. Иначе и быть не может... — Ей подумалось, что при этих словах он наверняка усмехается. — Но не более того, обещаю, милая моя девочка. Выходи, пока я на тебя не разозлился. Тебе некуда бежать. Воспользуйся моментом, пока я не убедил себя, что это просто милые шалости и привлекательное сумасбродство, а не тяжкая измена и несмываемое оскорбление.
— Пошел на хуй, — ответила Ледедже, но очень-очень тихо, и сделала еще пару осторожных, танцующе-скользящих шагов по узкому деревянному карнизу. Под ее ногой что-то скрипнуло, а может быть, треснуло. Она сглотнула слюну и продолжила начатое движение.
— Ледедже, выходи! — В голосе Вепперса прозвучала ярость. — Я пытаюсь быть благоразумным, но, черт подери, мне это нелегко! Я ведь благоразумен, не так ли, Джаскен?
Она услышала, как Джаскен пробормотал в ответ что-то неопределенное, и голос Вепперса загремел снова:
— Вот видишь, даже Джаскен считает, что я очень выдержан и благоразумен. А он, между прочим, тебе столько одолжений делал, что можно считать его твоим сообщником. О чем еще с тобой говорить? Ладно! Твоя очередь. Твой последний шанс. Покажись. Это меня уже постепенно выбешивает, и шутки кончились. Ты меня слышишь?
О, как хорошо я тебя слышу, подумала она. Как же ему нравится слышать собственный голос. Джойлера Вепперса никогда нельзя было упрекнуть в нежелании оповестить мир о своем мнении по тому или иному вопросу, а сейчас, благодаря его богатству, влиянию и исчерпывающему контролю над средствами массовой информации, у всего мира — да что там мира, всей системы, всего Установления — просто не оставалось иного выбора, чем прислушиваться к его словам.
— Я серьезно, Ледедже. Это не игрушки. Я положу этому конец прямо сейчас, хочешь ты того или нет, но ты можешь остановиться по собственной воле. И поверь, паскудница, тебе же лучше не вынуждать меня вмешиваться.
Новый скользящий шажок, и снова треск карниза. Ну что же, хоть какая-то польза от его речей: они заглушают любой шум от ее перемещений.
— Пять ударов, Ледедже, — возгласил он. — Потом я берусь за дело.
Ее нога медленно скользила по узкому деревянному выступу.
— Отлично, — подытожил Вепперс, и она услышала в его голосе гнев. Даже несмотря на обуревавшие девушку ненависть и искреннее презрение к нему, тон, которым сейчас говорил Вепперс, способен был заронить в ее душу семена страха. Раздался шум, похожий на хлопок от удара. Сперва она подумала, что Вепперс отвесил Джаскену оплеуху, но потом сообразила: это всего-навсего хлопок в ладоши.
— Раз! — крикнул он. Пауза и новый удар. — Два!
Ее правая рука, затянутая в тонкую перчатку, протянулась так далеко, как она могла достать. Она мечтала нашарить узкую полосу дерева, отмечавшую край сцены. Дальше была бы стена, а значит — лестницы, галереи, мостики, ступеньки или даже канаты. Все что угодно могло бы там облегчить ей побег.
Еще один хлопок, на сей раз громче предыдущих, эхом разнесшийся в колосниковом пространстве.
— Три!
Она попыталась припомнить, каковы размеры оперной сцены. Она бывала здесь с Вепперсом сотни раз — как элемент антуража, как военный трофей, ходячая памятная медаль, символ его коммерческих побед. Она должна была помнить. Но ей не приходило на ум ничего, кроме восторга: перед яростным светом, глубиной и головокружительной сложностью сценических декораций, физическими эффектами, создававшимися серией потайных дверей и канатов, дымовых машин и фейерверков, громоподобным оглушающим звучанием скрытого оркестра и роскошно одетых певцов, транслировавшимся через вживленные микрофоны. Все это было как смотреть кино на голоэкране ошеломляющих размеров, но с комичными ограничениями просмотра — только под этим углом, с такой глубиной резкости пространства, на таком расстоянии от места действия. И, разумеется, без всякой возможности мгновенно изменить точку просмотра и масштаб, как на обычном экране. Конечно, в опере были установлены камеры, наведенные на основных участников спектакля, а по краям сцены — трехмерные боковые экраны, показывавшие их во всех подробностях, но все же зрелище было неизбывно патетическим и до горечи реальным, может, и оттого, что она всегда помнила, сколько сил, времени и денег в него вложено. Будь она богата и знаменита, ей показалось бы весьма странным не получать удовольствия от такого кино или же, по крайней мере, не иметь никакого выбора при просмотре и при этом продолжать финансирование съемочного процесса. Ей было невдомек, в чем тут соль, а вот Вепперс от этого, казалось, получал искреннее удовольствие.
— Четыре!
Лишь много позже, когда выходы в свет стали регулярными, и она кое-как приспособилась к социальной жизни, привыкла выставлять себя напоказ, стало ей понятно, что сама опера — не более чем фоновая картинка, а истинное представление происходит в зрительном зале, на сверкающих свежим лаком лестницах, под закругленными сводами высоких светлых коридоров, под нависающими канделябрами в отделанных с поистине дворцовой роскошью парадных, вокруг ломящихся от яств столов в ослепительно роскошных салонах, в абсурдно просторных комнатах отдыха и туалетах, в передних рядах партера и частных ложах — везде, только не на самой сцене. Сверхбогачи и сильные мира сего полагали только себя истинными звездами, а настоящий смысл представления заключался в их прибытии и отъезде, сплетнях, которыми они сопровождались, попытках войти в доверие и завязать дружбу или партнерство, предложениях, предположениях, подсказках — во всем, что творилось в публичных помещениях этого массивного здания.
— Кончай с этой мелодрамой! — заревел Вепперс. В его голосе вновь послышался нарастающий гнев. — У тебя был шанс, Ледедже, но ты им...
— Господин! — негромко крикнула она в его направлении, но по-прежнему глядя прочь, туда, куда все это время кралась.
— Что это было?
— Это она?
— Лед? — крикнул Джаскен.
— Господин! — жалобно вскричала она в ответ, по-прежнему не так громко, чтобы это тянуло на вопль, но в то же время пытаясь создать впечатление, будто все ее силы вложены в этот крик. — Я тут! Я согласна. Простите меня, господин. Я приму любую кару, какую вам будет угодно на меня наложить.