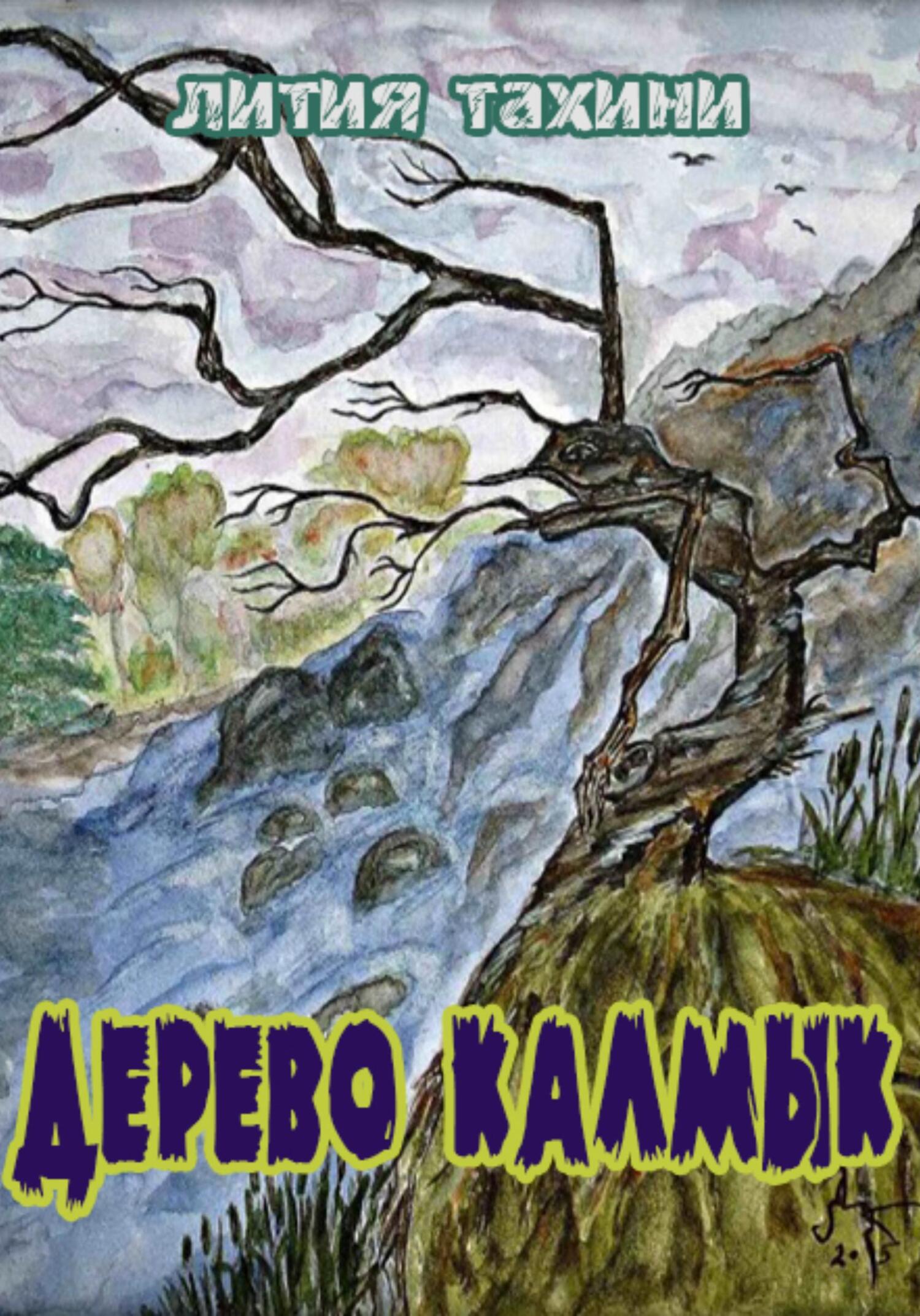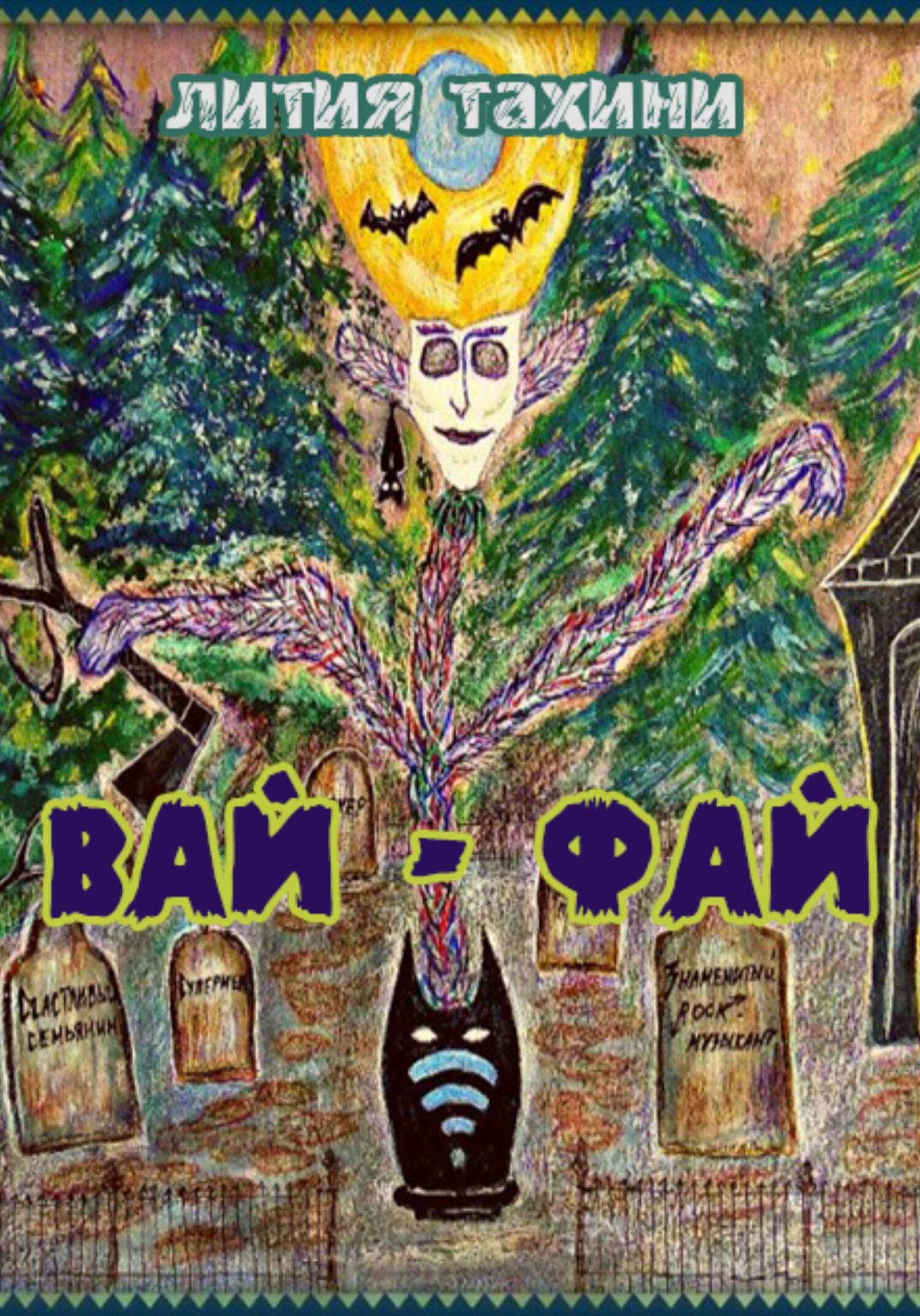лицо с накладным клювом кецаля, вместо носа.
Незнакомец заговорил:
— Здравствуй, народ Роима, меня зовут отец Титоан, и я рад пригласить всех вас на свою воскресную проповедь.
Люди зашептались между собой, что уж шибко странный он какой-то, этот святой отец.
— Ты точно монах? — спросили они.
— Да, я монах, — Титоан выдержал паузу, улыбнулся и добавил, — временно расстриженный.
Когда людское недоверие спало, он продолжил.
— На ваш суд, хочу представить новую религию — свою собственную! Хочу продемонстрировать вам новую Книгу книг, и заверяю вас, только в ней вы найдете утешение. Итак, жду вас в воскресенье в 12 часов дня, — сказал он и театрально раскланялся.
Никто ничему уже не верил, но от забитости и усталости, люди не оспорили слова чужака, промолчали лишь потому, что он представился священнослужителем, хоть и без духовного сана.
Никому не пришло в голову поинтересоваться, что за разноцветные лоскутья надеты на его шею, и почему вместо креста на его груди, висели маски Мельпомены и Талии, а на книге в его руках, было написано Библия Комедии Масок.
Людям не хотелось никуда идти, но было у этого монаха то, в чем горожане нуждались больше всего — крылья бабочек. Пыльца, которую они источали, была единственным средством от тошноты и головокружения.
Бабочки никак не хотели покидать свои коконы и рождаться. И даже если удавалось их вырастить, крылья очень быстро израсходовались. Иметь у себя маленький фрагмент крыльев, считалось неимоверной роскошью, а в ветвях дерева монаха, их развевалось целых два.
За глоток свежего воздуха, люди были готовы пойти на всё, даже на воскресную проповедь.
В воскресенье, все пришли в шатер на холме и расселись на лавки. Отделка внутри была из золота, всё дышало величием, но несмотря на роскошь, атмосфера была аскетичной и действительно походила на церковную, только вместо алтаря, возвышалась обветшалая и старая, как сам мир, сцена.
Внезапно погас свет и на сцене вместо проповедника, зрители увидели несколько лысых людей — те раздевались.
Сначала они сняли с себя длинные черные платья, под которыми внезапно оказались одежды сидящих в зале людей.
Публике понравилась такая проповедь, и все одобрительно присвистывали и притаптывали.
Мимы под веселые крики зала, снимали с себя слой за слоем разные платья, блузки, костюмы, штаны, юбки, колготки и даже нижнее белье зрителей.
Все думали, что это такой фокус или гипноз, ведь не могли же их личные вещи, одновременно быть надеты на них и на актерах.
К тому же, артисты не выглядели большими и неуклюжими, от обилия вещей на них, напротив — они были стройны и подвижны.
Внезапно, крики — Браво! — сменились на — Мерзость и фу! — потому что, те добрались до наготы каждого из присутствующего в зале, начав снимать с себя чужие тела и лица.
Во всем своем уродском великолепии, все увидели всех. Попеременно сменялись и мелькали стройные и толстые тела, молодые и безобразно старые, красивая, полная девичья грудь сменялась морщинистой и обвисшей до самого пупка, а на смену молодецкой эрегированной плоти, появлялись старческие концы, затерянные в седине телесной мотни.
Сначала, менестрели сняли с себя тела каждого присутствовавшего в зале, а позже, взялись за всех остальных жителей.
Зрелище было отвратительным.
Нескончаемым потоком росла гора тел, она выросла до самых куполов, один из них не выдержал давления и треснул, всё это вывалилось наружу.
От стыда и смущения, зрители отворачивались от сцены, но утыкались взглядом в рядом сидящего соседа и от этого неловкости только прибавлялось.
Появился стыд, а вместе с ним, пали стены высокомерия и превосходства, выстроенные вокруг их личностей.
Когда с актеров всё чужое телесное было сброшено, все облегченно вздохнули.
А меж тем, проповедь продолжалась.
И теперь, на сцене стояли голые, прекрасно сложенные люди. Народ толпился возле сцены, пытаясь определить их пол и рассмотреть лица мимов, но им это никак не удавалось.
Также пытались сосчитать их, но сбивались со счета или недосчитывались, одни видели троих, другие — пятерых.
Большинству хотелось уйти, потому что, пережитое ударило по привычному ритму человеческой полосы восприятия реальности, но любопытство удерживало их на своих местах.
Внезапно, свет сделался красным и лица актеров начали поочередно приобретать черты зависти, гнева, алчности, чревоугодия, похоти, тщеславия, ненависти, высокомерия и других личин инфернальной нечисти.
Актеры по живому сдирали их с собственных лиц и бросали в зал.
Маски человеческого цинизма и порока, слетали с них — как шелуха с зерна, как деревянные щепки с будущей скрипки, из-под цикли скрипичного мастера, как примесь обычного камня с драгоценной породы, в руках ювелира.
Маски кружили вокруг зрителей и пристально всматривались им в лица, угрожающе скалились и передразнивали их, просачивались сквозь кожу, заглядывали за обивку души.
Власть имущие Роима, почуяв неладное, дали приказ на нейтрализацию всего циркового храма, вместе с горожанами и актерами в нем, чтобы не осталось ни следов, ни разговоров о присутствии магии в городе.
Но было уже поздно. Вихрь окружил тряпичное здание, а внутри — то шел дождь, то нещадно палило солнце и сцена полыхала мокрым огнем.
Охранники пробирались сквозь шквал к площадке, где стояли актеры. Когда же они вплотную окружили ее подмостки и готовы были брать зачинщиков беспорядка, то увидели только одного человека — отца Титоана, и выглядело это так, будто кроме него, на сцене изначально никого не было — Театр одного монаха.
Стражи бросились на него, но были на старте отброшены невидимой силой.
Смешалось несмешиваемое, теллур и селен вскрикнули от разлуки и разорвалась ткань мира, стратосфера смешалась с тропосферой и задышала всем этим человеческим.
Отец Титоан светился изнутри до тех пор, пока свет не поглотил его всего.
Он распался на бесчисленное множество светящихся частиц и растворился в воздухе.
Никто до конца не понимал что произошло. Но явно что-то изменилось.
Глаза и сердца людей утратили жесткие щиты, и они впервые смотрели на мир своими собственными глазами.
Позже, еще долго искали этого странного человека, в котором никто из простых смертных, так и не заподозрил мистика-контрабандиста.
После него осталась только его книга, Holy Bible Commedia Dell`Arte.
Среди прочих текстов, в ней была выделена фраза — «Пока злой человек не наглотается от собственного зла, пока его не стошнит им же, — только тогда, на это же место, в эти же пустоты, изловчась, можно подселить добро».
Фраза осталась до конца не понятой, но это было уже не важно — пустоты людей были до предела заполнены счастьем. Экологическая катастрофа была предотвращена.
Религия и Комедия помирились, их